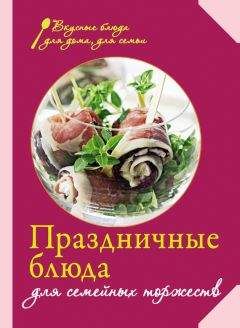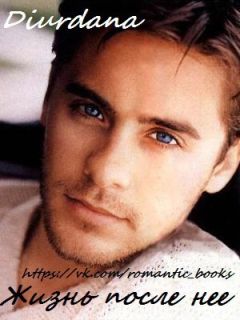Вечером те, кто еще оставался с Марией, разошлись, кто домой, а кто к Гуртовым на свадьбу. Дом опустел. Остались лишь две старушки, по-монашески повязанные темными платками. Они неприметны были днем в людской суете, сидели где-то в сторонке в углу. Теперь же, бесшумно похаживая и перешептываясь, они распоряжались в доме: что-то делали у гроба, что-то устраивали в комнате. Мария почти не замечала их; тихие, они не мешали, с ними даже легче было — и есть в доме живые люди, и нет вроде никого. Она уже привыкла, что другие хозяйничают в доме, не спрашивая ее.
Стало смеркаться, и старушки зажгли две тонкие свечки у Иванова изголовья. Одну свечку вставили в сложенные на груди руки его, и она тихо горела светоносным, едва колеблемым лепестком огня. В лунке у голубоватого основания пламени собирался чистый, как слеза, расплавленный воск и, переполнив лунку, скатывался по стебельку свечи прозрачными каплями, застывая, мутнея на холодных Ивановых пальцах… Он лежал в новом костюме, купленном к свадьбе, в белой рубашке с галстуком. Будто собрался на дочкину свадьбу, да в последнюю минуту прилег отдохнуть, смежил веки перед дорогой. Лицо у него было бледное и чистое, только на лбу меж бровей залегла чуть приметная недовольная складочка, которая всегда появлялась, если, вернувшись усталый домой, он находил какой-нибудь беспорядок.
Старушки спросили, есть ли икона. От матери у Марии оставалась икона, которой та благословила их с Иваном. Все эти годы икона пролежала в ящике комода. Старушки достали ее, в сильно потемневшем латунном окладе, установили на комоде и, за неимением лампадки, затеплили перед ней свечечку, еще одну. Пошептав тихонько молитву и перекрестившись, обе ушли на кухню пить чай.
Только теперь, оставшись одна, Мария отдалась горю своему до конца. До этого все время заботы тяготили и отвлекали ее. И вот ушли все земные заботы, словно их не было, и осталась она со своим горем одна.
Она сидела рядом с Иваном, смотрела на его острый профиль, крепко смеженные веки, неподвижные бледные губы и вела с ним безмолвный разговор, как бывало и раньше у постели спящего мужа. Вспыльчивому и временами резкому, не всегда она могла ему высказать что хотела. И привыкла вот так сидеть иной раз возле спящего и безмолвно изливать ему душу. А он, ровно дыша во сне, будто и слушал, да не мог при этом вскинуться, оборвать. Так и теперь сидела она рядом и безмолвно говорила с пим. Но не вздымалась его грудь, не овевало дыханье застывшие губы, не живила краска бледное лицо.
Вечность прошла со вчерашнего дня, все копилось в ней горе, и некому было высказать его. Много было людей вокруг, и все ей сочувствовали, но не с кем было горе разделить, даже, так получилось, что и с дочерью. И вот теперь она выплакивала свое горе ему, безмолвно причитая и горько жалуясь:
«Как же так, Ваня? Как же это случилось?.. Зачем же ты ушел от меня, за какую вину покинул?.. Ведь не нажились еще с тобой, не нагляделась даже на тебя, на родного!.. Ведь теперь только бы и жить, Ванечка. Ведь как старались с тобой, как ладно дом-то устроили — всю работу переделали, все заботы избыли… Чем же провинились мы, что судьба к нам жестока, немилостива? Да разве ж такого ждали мы в нонешний день?..»
Жгучие слезы бороздили лицо, тоска туманила сознание, давила на сердце так, что тяжко было дышать. А он лежал, не слыша, не внимая, недвижный, строгий и безучастный ко всему. Она жадно искала на его бледном лице хоть немного живого чувства, хоть что-нибудь и, заметив легкую складочку недовольства на лбу, начинала оправдываться:
«Может, я чем виновата, так ты скажи. Может, что не так сделала? Хоть поругай меня, да не молчи, Ванечка!.. Кто же научит теперь, кто подскажет? Сам ты лучше бы рассудил, сделал бы правильней… Как мне жить теперь без тебя? — наклонившись к нему, исступленно шептала она. — Как одной-то век вековать?.. Ведь и дочку в одночасье увезли от меня, увезли нашу деточку! Уж она-то по тебе убивалась, не хотела идти под венец. Не хотела и я, да что ж было делать? Ведь люди собрались, ведь все уже стронулось…»
Она замолкала и, забывшись, ждала ответа. Но не было ответа. Он лежал, сильно вытянувшись, холодный, недвижный; только свечечка горела и чуть слышно потрескивала в его руках, и чистые, как слеза, капли воска стекали по ней, застывая на пальцах.
«Не хотел ты этой свадьбы, не хотел. Может, потому и ушел? — пугалась догадкой она. — Так ведь ты же молчал, а я бы тебя послушалась… И опять молчишь, все молчишь!.. Как же я теперь без тебя, кто научит уму-разуму? Ведь я, дура, когда и перечила тебе, а все знала: умный у меня мужик, золотая голова. Все на тебя надеялась, все на тебя! Как за каменной стеной за тобой жила… Как мне быть теперь без тебя?.. На кого ж ты меня оставил?..»
Тоска захлестнула ее, накрыла тяжелой волной. И, упав грудью на стол, вцепившись в острый край гроба, она разрыдалась, в беспамятстве стуча об него головой.
— Вставай! — уже в голос звала она. — Пойдем на свадьбу к доченьке! Пожалей ты меня, вставай! Нас люди там ждут — вставай! Вставай, миленький, не мучай меня!..
Он не услышал, не пожалел, не откликнулся. И уже не помня, не сознавая себя, она рыдала и билась о гроб, в безумной надежде разбудить его, бессвязно бормоча и выкрикивая какие-то горестно-умильные не свои, а вечные вдовьи слова из какого-то древнего причета:
— Уж за что же ты, миленький, рассердился на нас? Крепко спишь ты теперь, не пробудишься! Да за что же такая скорая смертушка? Да где она, злодейка, нашла тебя?.. На кого ж, горемычных, покинул нас? Не жена я теперь — вдова горькая, сиротою стала доченька!.. Как же стану я одна-то жить? Не по силам мне работушка, не по уму-то мне заботушка… Ой, вставай, Ваня, не томи ты меня! Иль возьми меня с собой, возьми, Ванечка!..
— Ты поплачь, поплачь!.. — говорили ей старушки, подступивши к ней. Они давно уже смотрели на закаменевшую в горе, безмолвную Марию с беспокойством и теперь с облегчением подбадривали ее: — Поплачь, миленькая, поплачь — оно легче станет…
Слабые огоньки свечей трепетали от ее надсадных рыданий. Тени, словно живые, беспокойно скользили по углам. И только Иван лежал каменно-строгий и безучастный ко всему, такой близкий — рукой подать — и уже такой бесконечно далекий, уже там, откуда возврата нет…
Гости съезжались в дом Гуртовых с раннего утра и до вечера. Последние прибывали уже к самой гулянке. Веселых, нарядных, нагруженных цветами и подарками, их встречали у ворот и шепотом сообщали об Иване. Веселость слетала с гостей, они охали, мрачнели. Потом с построжавшими лицами проходили в дом, скомканно говорили молодым положенные слова поздравлений и с облегчением смешивались с толпой уже прибывших раньше гостей. Бабы тесно сидели на веранде, судачили и горестно качали головами. Мужики толпились во дворе, курили, с уважением осматривали богатый дом Гуртовых с кирпичным гаражом, с множеством добротных хозяйственных пристроек, с остекленными теплицами на заднем дворе и тоже толковали о происшествии. Кто еще не знал всех подробностей, расспрашивал других.
— Как же так получилось? — спрашивали одни.
— Да вот так, — отвечали другие. — У нас тут новую дорогу асфальтировали, а каток еще не убрали. Теленок дорогу перебегал, выскочил из-за катка, а Иван отвернуть хотел, да скорости не расчитал — врезался в каток.
— Надо же, — качали головами. — Телка пожалел, а сам угробился!.. И в какой день!..
— Вот так и живем, — философски вздыхал кто-то. — Сегодня здесь, а завтра…
Никто толком не знал, как вести себя в этой ситуации, как быть: печалиться или не показывать виду. Неуверенно озирались, смотрели друг на друга, стараясь у другого найти правильный тон, нужный настрой. А пока неторопливо курили и сдержанно беседовали, ожидая, куда повернется. Пока ничего не было ясно с этой гулянкой, все словно чего-то ждали, какого-то решения, приговора. Но постепенно в этой толпе нарядно одетых, собравшихся для праздника людей грусть как-то понемногу рассеивалась. Большинство здесь все-таки не знали Ивана, а оживление большого сборища, прекрасная погода, встречи со старыми знакомыми и новые знакомства — все это создавало другой настрой. То там, то здесь голоса звучали громче, оживленнее; разговор перешел на погоду, на рыбалку, кто-то уже заговорил о футболе. Ничего еще не было ясно — однако на кухне деятельно готовили, оттуда распространялся густой аппетитный запах жареного мяса и чеснока.
Со стороны Гуртовых было больше гостей, и самые уважаемые гости: директор маслозавода Замуруев, тучный мужчина с волевым, начальственным взглядом, заведующий Домом быта Алтынов и всемогущая Пчелякова, депутат поссовета, в своем строгом синем костюме и, вопреки всем веяниям моды, с пышным начесом из обесцвеченных перекисью волос. Калинкинская родня стояла отдельной кучкой. Их и так было немного, да кое-кто еще не пришел на свадьбу, и они терялись среди многочисленной родни и гостей Гуртовых. Только Галя, одна из них, деятельно помогала на кухне, остальные стояли в сторонке грустные, подавленные. Кто-то предложил уйти со свадьбы, но вроде и неудобно было разрушить компанию, оставить здесь Любу одну. Они так и не знали, на что решиться, и словно ждали подсказки со стороны.