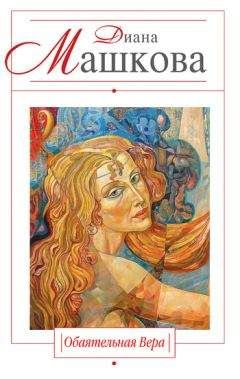– Смотри мне! – Он затряс кулаком перед ее носом. – Еще раз притащится сюда твой Егорыч, убью!
– Так ведь не было ничего… Мы ж с тобой в прошлый раз всю неделю на его денежки…
– Не знаю!
Она горько всхлипнула.
– Зря ты так. Хороший он человек. У старшеньких отца никогда не было. А теперь вот Петр Егорыч есть.
– И эту ему отдай! – Василий ткнул пальцем в кроватку. – Туда ей дорога!
– У Аннушки родной отец есть! Твоя же! Твоя!!!
Мать завыла. Дочка, испуганная, проснулась и начала заодно с ней голосить.
– Заткнитесь, бабы! – Василий погрозил в воздухе дрожащим кулаком.
Больше он в тот раз ничего не сказал. Долго сидел, положив локти на стол и закрыв огромными ладонями лицо. Мать, раздосадованная, схватила ребенка и снова стала кормить.
Так и отметили рождение дочки.
Родители спали как убитые. Малышка, тихая и спокойная в роддоме, теперь не смыкала глаз. Ей мешала острая боль в животике и холодные, по десятому кругу, намокшие пеленки. Она плакала. Плакала долго. Охрипла. Были бы слезки – утонула бы в них. Только пьяная мамаша ее не слышала. Утомившись, Аннушка замолкла. И провалилась в бессознательный, заполненный разноцветными пятнами, болезненный сон.
К коликам Аннушка изо дня в день привыкла. К мокрым и холодным пеленкам – тоже. Она даже не заболела: на улице была жара, и в старой хибаре стояло вонючее, влажное тепло. Во двор ребенка не выносили – мамке было не до того. Она то пропадала где-то, то ругалась со своим непутевым сожителем, то пила вместе с ним. Иногда на нее находило, если просыпалась, протрезвев. Начинала собирать по всему дому грязные тряпки, пеленки. Грела воду. И стирала в старом тазу, разбрызгивая мыльную пену по всему полу.
Аннушку купали в хибаре таким же манером – наполняли детскую ванночку. Но праздник такой случался редко. И кожа малышки уже через две недели домашней жизни покрылась опрелостями и прыщами. Она горела и саднила. Девочка все время плакала, но слезки у нее так и не появились. Даже на второй месяц жизни, как это принято у счастливых детей. Зато голос прорезался дай бог каждому. За эти бесконечные вопли Василий материл жену и гонялся за ней по огороду с кухонным ножом. Аннушка не видела этого, не понимала.
Большую часть времени она проводила в заливистом крике или тяжелом сне. Наорется вдоволь, поест и проваливается в дымчатый мрак. Проснется от голода, снова наплачется, мать сунет горькую грудь – и назад, в беспамятство. Сон спасал. От боли. От страха. Все равно ничем другим Аннушку не занимали – и днем и ночью лежала она, никому не интересная, в своей кроватке. Лишь изредка, после сладкой ночной возни в койке с Василием, на мать накатывала болезненная нежность: она тискала малышку, горячо целовала в темечко, называла любимой дочкой. А потом сама же о своей любви забывала. Могла с силой тряхнуть, проорать в крошечное личико, чтобы заткнулась, или вовсе швырнуть в кроватку. Чем больше обижал мамашу Василий, тем страшнее та срывала зло на Аннушке. Грозилась даже выкинуть ее в окно или отнести на помойку, если не замолчит.
К двум месяцам девочка уже не улыбалась и не пыталась гулить. Лежала молча, бревном, или кричала что было сил. А в июне, когда лето, казалось, было в самом разгаре, вдруг заболела. Похолодало всего-то на несколько дней, но Аннушке, которая лежала все время в мокрых пеленках, хватило этой малости. Сначала из носика долго текло. Верхняя губа и кожица над ней превратились в сплошную корочку от раздражения. Потом вдруг в одну ночь Аннушка стала горячей как огонь. Глаза широкие. Смотрят не живо. И кашель. Такой жуткий, что сотрясалась кроха и наизнанку выворачивалась так, словно ее выкручивали. У любого человека сердце бы на мелкие кусочки от жалости разорвалось. А мать с отцом – ничего. Терпели. Даже к врачу отнести не пытались. Да и где ближайший врач? В город надо ехать, а это только до станции топать пешком пять километров.
Мамаша притащила откуда-то белых таблеток. Толкла их в порошок. И мешала эту пыль в гнутой алюминиевой ложке с подогретым красным вином пополам с водой. Заливала смесь малышке в рот: бутылочек детских в доме не водилось. Другие интересы. Аннушка из ложки глотать не умела: горькое пойло всегда мимо текло и жгло растрескавшиеся губы. Но постепенно болезнь, казалось, отступила. Жар прошел. И мамаша, довольная хорошим средством, увеличила дозу вина. Только девочка продолжала кашлять. Василий брезгливо косился на кроватку и ругал на чем свет стоит глупую жену. Жили бы без этой обузы, горя не знали! И малявка росла бы на всем готовом – и врачи, и лекарства. Все, что душе угодно.
– Вась, – мамин голос звучал просительно, – пойду, что ли, в магазин. Еды в доме ни крохи, а мне ребенка кормить. Молоко пропадет.
– Водки купи, – потребовал Василий.
– Денег не хватит, – робко возразила мать.
– Что, на мужа жалко?! – завелся он. – Вчера только у дачников заработал – полдня дрова им колол. На свои кровные имею право выпить!
– Так мало осталось, сам же бутылку вчера купил.
Мамаша нерешительно топталась на пороге и размышляла: поднимет на нее Василий руку или на этот раз обойдется. Выпить и самой хотелось. Но есть-то и вовсе было нечего – весь май даром прошел, время на Анку истратила. Ничего в огороде не посадила. Теперь разве что в лес за грибами…
– Пошла! – заорал Василий. – Будешь еще из-за этой дряни, – он ткнул грязным пальцем в кроватку, – жизнь мне калечить. Обеих зарублю!
Мать выскочила за дверь. А Василий так разошелся в праведном гневе, что не мог успокоиться. Все кипело внутри. Вот взял бы за ноги это орущее существо и тюкнул об угол головой. Делов-то! Он обошел вокруг кроватки пару раз. Брезгливо осмотрел сморщенный, зароговевший от грязи и завернутый в тряпки, комок. Комок не переставая вопил и сотрясался от жуткого мокрого кашля.
– Дерьмо! – Василий плюнул прямо в кроватку. – Я тебе покажу! Дерьмо! Будешь знать, как жизнь мне ломать.
Он не решился прикоснуться к Аннушке: мамаша поднимет вой, побежит, чего доброго, в милицию. Зато придумал, как отомстить обеим сразу. Стащил с себя старые портки, присел посреди пола на корточки и, с трудом сохраняя равновесие, наложил прямо на пол.
– Будешь знать! – повторял он. – Будешь знать! Поймешь, чем пахнет!
Мамаша к тому времени только добрела до домишки, где располагалась летом скромная лавка. Зимой продукты возили сами, из города. Дачники разъезжались, оставалось в деревне пять домов – выгоды никакой.
– Клава! – тихо позвала она. На голос выплыла дородная продавщица и поморщила нос.
– Тебе чего?
– Ну, – мамка застопорилась, размышляя как быть, – макароны дешевые есть?
– Есть. Давать?
– Ну, – мамаша лихорадочно копошилась в карманах, – давай. И бутылку, – торопливо добавила она.
Денег почти не осталось, на хлеб и то не хватает.
Клава выложила требуемое на прилавок.
– Еще чего?
– Хлебца бы черного, – мать сглотнула слюну, – только у меня всего три рубля осталось.
– Подавись! – буркнула Клава, бросив буханку на прилавок. Жалела она эту дуру, хоть и ненавидела заодно со всеми ее приблудными мужиками. Но проявляла благородство души, помогала по старой памяти. Когда-то давным-давно они вместе в школу ходили в соседний поселок. За одной партой сидели.
– Спасибо, Клавушка! – мамаша расцвела. – Я все отдам. Как будет – сразу отдам. – Выложила смятые бумажки и грязную мелочь, схватила добычу и помчалась что было сил обратно. Васеньку утешать.
Открыла дверь в свою избушку и, привычная ко всякому смраду, удивленно заткнула нос. Вонь стояла невыносимая. Внутри было тихо и темно, все окна зашторены. Ничего не разобрать. Постепенно глаза различили – Василий стоит посреди комнаты без штанов, руки в бока. Смотрит на нее, победно ухмыляясь. Аннушка, сама устав от своего крика, едва слышно хнычет. Мамаша прошла, положила покупки на стол, отступила на шаг и увязла ногой в мягкой куче. Не разобрала. Нагнулась, потрогала, выпачкала пальцы. С запозданием поняла все и разревелась.
Василий захохотал. Он долго клокотал, даже не думая натянуть штаны. Аннушка заверещала громче, к жуткому смеху отца прибавился ее пронзительный визг. Мамаша не выдержала – трясущимися руками открыла бутылку и глотнула, сморщившись, прямо из горла.
Город и не думал отходить ко сну. Весна будоражила. Покачивала бедрами, бросала кокетливые взгляды, расплывалась в томных улыбках; вслед ей неслись посвистывания, причмокивания и улюлюканье. Одна только Маша Молчанова к чувственным сумеркам была безразлична: сосредоточенно шагала к метро, глядя прямо перед собой и чеканя шаг как солдат. Она не замечала растворенного в воздухе сладострастия – ее мысли блуждали далеко.