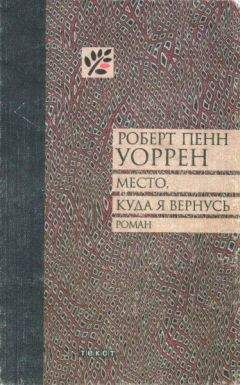Уоррен Роберт Пенн
Память половодья
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН
Память половодья
Перевод Г. Дашевского
До того высохшей, до того блеклой казалась она, проходя по улице, что при встречах мальчик с трудом признавал в ней героиню тех вечно неконченных повестей, которые складывались из перешептываний приходивших к его матери дам. Как это у них говорилось? Говорилось так: Ни стыда, ни совести, жить здесь как ни в чем не бывало. Она его не любила. Зачем ей понадобилось за него выходить? Зачем все прочее ей понадобилось? Она его не любила - десять лет как умер, и хоть бы цветочек на могилу. Вот увидите - и у дочки кровь скажется. Говорилось так: Хоть бы цветочек. При встречах на улице он вспоминал то, что говорилось. Высохшая, она была похожа на ту солому и сор, которые памятью давно спавшего половодья невинно ютятся в ветвях пойменных платанов - будто живая отметка былого разлива страстей в городке.
Высохшая, но мальчик все-таки верил в историю о ней и гадал, не надеясь узнать, о ее деталях - ведь имелся и более убедительный, чем идущая по улице миссис Бомонт, залог ее истинности. Залогом была девушка. Торопясь зимним вечером в бакалею, быстрыми ровными шажками рассекая холодный воздух; летом в гурьбе подруг плетясь за мороженым в аптеку; или летом, зимой ли идя на почту с письмом в руке.
На руке, сжимавшей белый прямоугольник, не было перчатки; по крайней мере, никогда не было в его воспоминаниях. На бумаге одиноким пятном краснела марка. Когда она плечом распахивала дверь почты, по-детски спадавшие на шею темные локоны вздрагивали. Хоть и ни разу не оказавшись рядом, когда она вверяла письмо прорези, он словно сам это видел: легкое движение пальцев - и письмо, ею самой, наверно, написанное, отправляется в путь к кому-то, кого он никогда не узнает; звякает ящик.
У нее в пальцах письмо было ее частью, ее продолжением. Когда оно ныряло в черную полость, когда за ним звякала крышка, записанные чувства от нее отделялись, теперь связанные с нею лишь подписью - эту подпись он ясно представлял по отчетливым, с левым наклоном буквам "Элен Бомонт" на ее тетрадях и учебниках. Письмо с подписью "Элен" ей уже не принадлежало; оно принадлежало миру, чуть ли не кому угодно, тому, кого он никогда не узнает. Кому угодно, только не ему. В его памяти тем не менее она всегда несла на почту письмо, а не сидела, например, на уроке, где он с тех пор, как перескочил через класс, видел ее чуть не ежедневно.
- Элен Бомонт, - говорил мистер Гриффин, постукивая мелом по чертежу из прямых и треугольников на доске, - не скажете ли вы, почему эти два треугольника пропорциональны?
Пальцы мистера Гриффина вертели мел, постукивали по доске. Это был молодой человек, очень высокий, подносивший ко рту, когда сконфуженно и виновато кашлял, костлявую руку. Он старался заработать, чтобы вернуться в колледж или, если получится, переехать на Запад. Иногда, по вечерам, мальчик с приятелем заходили к мистеру Гриффину в его комнату в пансионе. На столе под зеленой лампой рядом с учебником геометрии и "Галльскими войнами" Цезаря были навалены бумаги. Мистер Гриффин рассказывал о Теннессийском университете. На блоках у стены висели старые атлетические гири. Он показывал, как с ними упражняться. Мальчики смотрели, как он сосредоточенно двигает рукоятки взад-вперед раз-два, раз-два-три. Крылья его большого заостренного носа подергивались в такт счету, на лбу выступал мелкий, почти невидимый пот. "Я вам голоски-то сломаю, - говорил мистер Гриффин. - Я из вас сделаю мужчин". И, глубоко вдохнув, тянул на себя рукояти.
- Элен Бомонт, - говорил мистер Гриффин, - так что вы нам скажете?
Она смотрела на него, на вертящийся в пальцах мел, словно укоряя существо из прямых линий и холодных углов за вторжение в иной мир, где все линии томно изогнуты в сторону какого-то цветения, которого ему никогда не понять.
- Не знаете, - произносил мистер Гриффин раздраженным тоном.
- Не знаю, - говорила она.
Так повторялось из раза в раз. Когда мистер Гриффин ее спрашивал, мальчик смотрел не на нее, а в окно, поверх полей, на зимний дождь, сеявший с высоты на размокшие стебли кукурузы. На горизонте за полями виднелся лес - размытая, без объема и глубины, полоска, такая же далекая, как небо, серое и беззвучное, будто провисшая кожа барабана. Под черневшими вдали ветвями, ступая по набухшему лиственному настилу, можно было бы пройти совершенно бесшумно.
Так повторялось из раза в раз. На вопрос отвечал кто-нибудь другой. Все к этому привыкли - она была известная тупица. Если мистер Гриффин обращался к нему: "Ну а вы, Стив Адамс, можете нам ответить?" - он отвечал. Но однажды, уже открыв рот для ответа, он встретил ее взгляд, спокойный и насмешливый. "Я не знаю", - сказал он.
Пузатая печка круглый день краснела от жара. Окна запотевали, буквы учебников таяли в полутьме. На большой перемене старшеклассницы ели завтраки, усевшись у печки. От жара щеки румянились, в голосах слышалось возбуждение. Стив иногда съедал завтрак за партой - он ел сосредоточенно, после каждого откуса разглядывая выгрызенное в хлебе полукружье. Он слышал девические голоса и обдумывал какую-нибудь из фраз так же сосредоточенно, как рассматривал след зубов на хлебе. Слышал голос Элен Бомонт: "...а я Фрэнку говорю: "Мне это безразлично". Тщательно сминал замасленную бумагу.
- Стив, - окликнула его Сибил Барнс, - хочешь торта? - Худая, смуглая, она становилась злой и недовольной, когда делала что-нибудь приятное, точно стыдясь, что поддается такой пошлой слабости. - Бери, - сказала она резко, хороший, шоколадный.
Он подошел и, протянув руку за тортом, правой оперся на ее парту.
- Господи, - сказала она, - какая у тебя гадкая бородавка.
Левая рука застыла на полпути, он посмотрел на свою распластанную по парте кисть. Бородавка, толстая, в коросте, мерзко торчала у ногтя на указательном пальце. Он медленно подогнул палец, пряча ноготь в укрытие ладони, оставив на виду только сустав - тупой, как обрубок на руке Люка Смита, работавшего на отцовской лесопилке.
- Покажи, - приказала Сибил.
- Пустяки, - ответил он.
Она осторожно взяла палец.
- Такую не сведешь, - сказала она.
- Пустяки, - повторил он.
Он выдернул руку и вернулся за свою парту. От шоколада стало сухо, горько. Он слышал голоса, голос Элен Бомонт: "...а я Фрэнку говорю: "Мне это безразлично".
Этим вечером, голый, он встал перед умывальным зеркалом и поднял руку к груди. Рука в зеркале на фоне белой кожи была серой и скрюченной, будто огромный паук, бородавка - чудовищной. Лицо в зеркало не попадало. Он быстро натянул ночную рубашку, присел на изразцы перед камином и уставился на разваливающиеся золотые угли. Из соседней комнаты донесся голос матери.
- Ложись спать, сынок, - сказал голос.
Круглый день жарко пылала печка. Оконницы слезились, будто от тающего инея, скрывая поля в стеблях прошлогодней кукурузы. К трем часам накал печного корпуса слабел, по нему расползалась, проступая сквозь меркнущую красноту, дремотная серость железа. На железе проступали застарелые плевки, налипшая апельсинная мякоть. Минутная стрелка судорожно ползла вверх, и в мертвой тишине между фразами мистера Гриффина класс заполняло тиканье часов, отсчитывавших свою несомненность.
В три выходили во двор: сперва дети помладше гуськом за учителями, потом, вразброд, старшеклассники. Старшеклассницы, стесняясь носить ботики, боязливо пробирались между луж, будто курицы по скотному двору. Мальчики вязли в лысом хлюпающем дерне; когда бывало морозно и ясно, они громко топали по мерзлому грунту, окликая друг друга пустыми и пронзительными, как у ржанки, голосами.
Было морозно, ясно, и мальчики окликали друг друга, когда большой новый "гудзон" в первый раз поднялся по склону, точно гравием хрустя и плюясь наледью, намерзшей в колеях. Он остановился на углу школьного двора. Фрэнк Барбер опустил стекло и высунул голову, приоткрыв рот в улыбке, похожей на ломкий, неверный ледок. В восемнадцатом году Фрэнк Барбер с армией побывал во Франции, а теперь служил детективом на железной дороге - но говорили, что свою самую большую в городе машину он вряд ли купил на жалованье. Днем он болтался в привокзальной гостинице; поздно вечером бывало слышно, как стук его мотора удаляется из города. Поворачиваясь на звук, люди говорили: "Фрэнк Барбер снова укатил".
Когда мимо шли малыши - сопливые, неуклюжие, - он улыбался, высунувшись из окна. За ними тесными стайками прошли старшеклассницы. Элен Бомонт остановилась, что-то сказала остальным и подошла к "гудзону". Она села в машину рядом с Фрэнком Барбером, и он поднял стекло. Машина съехала по склону, сверкая на солнце, ревя мотором.
Весна выдалась поздняя - дождливая, бессолнечная. Мальчик смотрел на раскаленные бока печки - краснота ее тускнела с каждым днем, и с каждым днем сгущалась над раскисшей землей новая листва. Смотрел в окно, в раме которого уходили вдаль стебли прошлогодней кукурузы, дугами нависшие над длинными лужами между рядов. Цветовые пятна текли, таяли, контуры расплывались, точно на упавшем в воду журнале. Только в воронах, сомнамбулически метавшихся над полями, была жизнь. Он и не слыша знал, как желтые клювы, разеваясь навстречу ветру, выкаркивают свое издевательское "вряд ли". Слабое эхо карканья реяло в мозгу поверх классных голосов, пока он ждал, когда стрелка дойдет до трех и большая черная машина затормозит на склоне. Раз или два она не приехала, и он побрел домой в тоске, от разочарования оцепенев и потяжелев. Но, дожидаясь трех, он надеялся, что она не приедет.