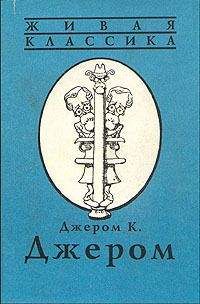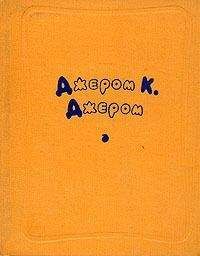Джером Клапка Джером
Как мы писали рассказ
Много лет назад, когда я был ребенком, мы жили в большом доме на какой-то прямой и длинной, закопченной улице лондонского Ист-Энда. Улица была шумной и многолюдной в дневные часы, но тихой и пустынной по ночам. В. темноте немногочисленным газовым фонарям приходилось играть роль маяков, так как освещать путь им было не под силу. Шаги полисмена, обходившего свой бесконечный участок, то удалялись, то приближались, замирая на короткое мгновение, когда он останавливался, чтобы проверить, хорошо ли заперты двери и окна, или осветить фонариком какой-нибудь темный проулок, ведущий вниз к реке.
У нашего дома было много преимуществ – так мой отец обычно говорил друзьям, выражавшим удивление по Поводу выбранного им местожительства, а для моего детского, болезненно впечатлительного ума одним из главных достоинств было то, что задние окна нашей квартиры выходили на старинное и густо населенное кладбище. Часто по вечерам я тайком вылезал из-под одеяла и, забравшись на высокий дубовый ларь, стоявший под окном моей комнаты, со страхом смотрел вниз на старые серые могильные плиты, воображая, что крадущиеся между ними тени – это призраки, грязноватые привидения, которые утратили свою естественную белизну и от городского дыма стали тусклыми, подобно снегу, лежавшему порой между могил.
Я внушил себе, что это привидения, и в конце концов начал относиться к ним совсем по-дружески. Меня интересовало, что они думают, видя, как исчезают буквы их имен на могильных плитах, вспоминают ли о прошлом, желая быть снова живыми, или же чувствуют себя более счастливыми, чем при жизни. Но подобные мысли нагоняли еще большую грусть.
Как-то вечером, когда я сидел и смотрел в окно, я почувствовал прикосновение руки к моему плечу. Я не испугался, так как это была нежная и мягкая, хорошо знакомая мне рука, и просто прижался к ней щекою.
– Что делает здесь мой непослушный мальчик? Кто это удрал из кроватки? Кого сейчас мама нашлепает?
Но другая рука легла на мою щеку, и я ощутил, как мягкие локоны смешались с моими собственными.
– Я только посмотрю на привидения, мама, – отвечал я. – Их так много там, внизу, – и потом добавил раздумчиво: – Интересно, как люди себя чувствуют, когда становятся привидениями?
Моя мать ничего не ответила, но взяла меня на руки и отнесла обратно в постель. Потом она села возле меня и, держа в руках мою руку, – они были почти одинаково маленькими, – стала напевать песенку тихим, ласковым голосом, который всегда вызывал у меня желание быть хорошим, я с тех пор не слыхал этой песенки ни от кого, да и не хотел бы услышать.
Но, пока она пела, что-то упало мне на руку. Я сел в постели и потребовал, чтобы она показала мне свои глаза. Она засмеялась странным, надломленным смешком, как мне показалось, – сказав, что все это пустяки, и велела мне лежать тихо и спать. И я снова юркнул в постель и крепко закрыл глаза, но так и не мог понять, почему она плакала.
Бедная мамочка! Она придерживалась убеждения, основанного скорее на вере, чем на фактах и опыте, что все дети – сущие ангелы и что поэтому, на них необыкновенный спрос в тех краях, где ангелам всегда легче пристроиться к месту, и поэтому так трудно удержать детей в нашем бренном мире. Должно быть, в тот вечер мои слова о привидениях вызвали в этом безрассудно любящем сердце боль и смутный страх, и, боюсь, на много вечеров.
Позднее я часто ловил на себе ее пристальный взгляд. Особенно внимательно смотрела она на меня, когда я ел, и по мере того, как трапеза подвигалась к концу, на ее лице появлялось довольное выражение.
Однажды за обедом я услышал, как она шепнула отцу (дети вовсе не так глухи, как воображают родители):
– У него, кажется, неплохой аппетит!
– Аппетит! – ответил отец таким же громким, шепотом. – Если ему суждено умереть, то вовсе не от недостатка аппетита!
Моя бедная мамочка постепенно успокоилась и поверила в то, что мои братья-ангелы согласны еще некоторое время просуществовать без меня, а я, отрешившись от детства и кладбищенских причуд, с годами превратился во взрослого и перестал верить в привидения, как и во многое другое, во что человеку, пожалуй, лучше бы продолжать верить.
Но недавно воспоминание о запущенном кладбище и населявших его тенях снова ярко возникло в моей памяти и мне показалось, будто я сам привидение, скользящее вдоль тихих улиц, по которым когда-то я проходил быстро, полный жизни.
Роясь в давно не открывавшемся ящике письменного стола, я случайно извлек на свет запыленную рукопись, на коричневой обложке которой была наклейка с надписью: «Заметки к роману». Страницы с загнутыми там и сям уголками пахли прошлым, и когда я раскрыл рукопись и положил ее перед собой, память вернулась к тем летним вечерам – не столь, быть может, давним, если вести счет только на года, но очень, очень отдаленным, если измерять время чувствами, когда, сидя вместе, создавали роман четыре друга, которым никогда больше уже не сидеть вместе. С каждой потрепанной страницей, которую я переворачивал, во мне росло неприятное ощущение, что я всего лишь призрак. Почерк был мой, но слова принадлежали кому-то другому, и, читая, я удивленно вопрошал себя: «Неужели я когда-то мог так думать? Неужто я собирался так поступить? Неужто я в самом деле надеялся на это? Разве я намеревался стать таким? Неужели молодому человеку жизнь представляется именно такою?» И я не знал, смеяться мне или горько вздыхать.
Книга представляла собою собрание разных записей: не то дневник, не то воспоминания. Она являлась результатом многих размышлений, многих бесед, и я, выбрав из них то, что мне показалось пригодным, кое-что добавив, изменив и переделав, составил главы, которые печатаются ниже.
Поступая таким образом, я нисколько не пошел против своей совести – а она у меня крайне щекотливая. Из четырех соавторов тот, кого я называю Мак-Шонесси, отказался от прав на что-либо, кроме шести футов опаленной солнцем земли в южноафриканских степях. У того, кто назван Брауном, я заимствовал весьма немногое, и это немногое я по справедливости, могу считать своим, так как я придал ему литературную форму. И разве, воспользовавшись некоторыми из его ничем не украшенных мыслей и приведя их в удобочитаемый вид, я не оказал ему услугу, отплатив добром за зло? Разве он, отрекшись от высоких честолюбивых замыслов молодости, не скатывался все ниже со ступеньки на ступеньку, пока не сделался критиком и, тем самым, естественно, моим врагом? Разве на страницах некоего журнала с большими претензиями, но малым тиражом, он не назвал меня Арри (опуская Г. о, подлый сатирик!), и разве его презрение к людям, говорящим по-английски, не основано главным образом на том, что некоторые из них читают мои книги? Однако в дни, когда мы жили в Блумсбери и на театральных премьерах сидели рядом в последних рядах партера, мы считали друг друга большими умниками.
От Джефсона у меня имеется письмо, присланное из фактории в глубине Квинсленда. «Делайте с рукописью все что угодно, дорогой мой, говорится в письме, – только не путайте меня в это дело. Благодарю за лестные для меня выражения, но, увы, не могу принять их. Писателя из меня никогда бы не получилось. К счастью, я обнаружил это вовремя. Со многими беднягами бывает не так. (Я имею в виду не Вас, старина. Мы с большим удовольствием читаем все, что Вы пишете. Зимою время тянется здесь ужасно долго, и мы почти всему рады.) Жизнь, которую я веду здесь, больше подходит мне. Мне нравится брать лошадь в шенкеля и чувствовать солнечные лучи на своей коже. И вокруг нас подрастают наши малыши, и надо следить за подручными и за скотом. Вам эта жизнь, вероятно, кажется очень обыденной, неинтеллектуальной, но меня она удовлетворяет больше, чем могло бы удовлетворить писание книг. Кроме того, на свете слишком много писателей. Все так заняты писанием и чтением, что не хватает времени думать. Вы, разумеется, возразите мне, что книга-воплощение мыслей, но это всего лишь газетная фраза. Вы убедились бы, как далеки от истины, если б Вы, старина, приехали сюда и по неделям, как это бывает со мною, проводили дни и ночи в обществе бессловесных быков и коров на поднявшемся над равниной затерянном острове, подпирающем высокое небо. То, что человек думает, – действительно думает, – остается в нем и прорастает в тишине. То, что человек пишет в книгах, – это мысли, которые ему хотелось бы навязать людям».
Бедняга Джефсон! Когда-то он казался многообещающим юношей. Но у него всегда были такие странные взгляды!
Дж. К. Дж.
Вернувшись как-то вечером домой от моего друга Джефсона, я сообщил жене, что собираюсь писать роман. Она одобрила мое намерение и заявила, что нередко удивлялась, почему я раньше не подумал об этом. «Вспомни, добавила она, – как скучны все нынешние романы; не сомневаюсь, что ты мог бы написать что-нибудь в этом роде». (Этельберта несомненно хотела польстить мне, но она всегда так небрежно выражает свои мысли, что смысл их бывает непонятен.)