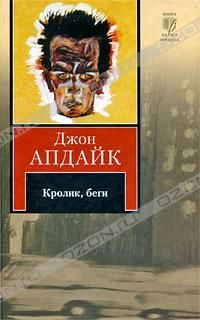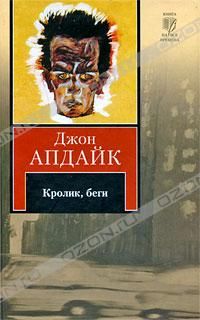— А поточнее? Сколько?
Она пожимает плечами — старухина кровать трясется.
— Больше, чем вы думаете. В компашке у Тощего траву и колеса все потребляли — геям-то что, им на себя денег не жалко, больше тратить не на кого. А года два назад Нельсон сам по себе уже так втянулся, что появилась необходимость красть. Сначала он только нас обворовывал, забирал себе деньги, которые должны были пойти в дом, на семью, потом начал таскать и у вас — из магазина. Надеюсь, вы засадите его в тюрьму, я не шучу! — Она уже какое-то время держит сложенную горсточкой руку прямо под сигаретой, чтобы пепел не упал мимо, и теперь озирается в поисках какой-нибудь пепельницы, но ничего подходящего не видит и в конце концов бросает незатушенный окурок в сторону приоткрытого окна — он ударяется о сетку, рассыпается искрами и потом шипит и гаснет на мокром подоконнике. В голосе у нее появляется хрипотца, он словно нащупывает наконец определенный ритм, начинает звучать громче и мелодичнее. — Я больше не хочу иметь с ним ничего общего. Я боюсь с ним спать, я боюсь быть с ним связанной официально. Я загубила свою жизнь. Вам не понять, что это значит. Вы мужчина, вы свободны, вы можете поступать, как вам заблагорассудится, и лет по меньшей мере до шестидесяти вы покупаете. Женщина только продает. Ей иначе никак. У нее просто нет выбора. А будет долго торговаться, ни с чем останется. Мне тридцать четыре. У меня был один-единственный шанс, Гарри. Я упустила его, профукала на Нельсона. У меня было на руках несколько выигрышных карт, и вот как я ими распорядилась, а теперь поезд ушел, игра проиграна. Муж меня терпеть не может, меня саму тоже от него трясет, и у нас даже нет денег, чтобы разбежаться! Мне страшно — кто бы знал, как мне страшно. А детям моим, думаете, не страшно? Я ничто, грязь под ногами, а раз я ничего не стою, то и они тоже. И дети ведь это прекрасно чувствуют.
— Эй, эй, — вынужден вмешаться он. — Ну-ка перестань. Каждый человек чего-то стоит. — Говорить-то он говорит, но про себя думает, что у него не хватило бы аргументов отстоять это старомодное убеждение. Сказать по совести, мы все ничто. Без Бога, который поднимает нас из праха и обращает в ангелов, мы все ничего не стоим.
Ее рыдания сотрясают постель с такой силой, что в его еще слабом послеоперационном состоянии его начинает мутить, как от качки. Чтобы унять колыхание ее внушительного тела, он притягивает ее к себе. Она, словно только того и ждала, прямо вжимается в него, будто нет между ними простыни и одеяла, и продолжает рыдать — регистром ниже и горше; он чувствует ее горячее дыхание у себя на груди, там, где на пижаме расстегнулась пуговица. На груди, которую ему хотят разрезать.
— У тебя хотя бы есть здоровье, — урезонивает он ее. — Что же тогда говорить мне? Меня уже в гроб положили, осталось только гвозди в крышку забить. Бегать мне нельзя, с женщинами спать нельзя, даже есть что хочется и то нельзя; добьют они меня, я знаю, заставят делать шунтирование. Тебе страшно? У тебя еще куча карт на руках. А мне каково? Сама подумай.
Уже успокоенным голосом Пру говорит из недр его объятий:
— Операции на сердце сейчас делают сплошь и рядом.
— Ну да, тебе легко говорить. В таком случае я тоже могу сказать тебе, что другие женщины сплошь и рядом выходят замуж за всякое дерьмо. А ты могла бы сказать мне, что наши дети сплошь и рядом становятся наркоманами и мошенниками в придачу.
Короткий смешок. Вспышка света за окном и через несколько секунд — гром. Оба прислушиваются. Потом она спрашивает:
— Это Дженис говорит, что вам нельзя спать с женщинами?
— Мы эту тему не обсуждаем. В последнее время нам просто не до того. Слишком много всего навалилось.
— Ну а доктор что говорит?
— Не помню. Моему кардиологу лет, наверно, столько же, сколько Нельсону. Нам с ним неловко поднимать такие темы.
Пру фыркает и заявляет:
— Ненавижу свою жизнь. — Она как-то странно оцепенела, будто кролик в свете надвигающихся фар.
Он позволяет своей руке, которой он обнимает ее за широкую спину, прогуляться наверх по бугоркам стеганого халатика и нырнуть в шелковистую ложбинку на шее под волосами и там их перебирать, тонкие, теплые.
— Мне это чувство знакомо, — бормочет он умиротворенно, ощущая во всем теле, по всей его длине, подкарауливающую его ватную сонливость.
— Кое-что мне в Нельсоне все же нравилось, например его отец, — говорит она. — Может, я надеялась, что со временем он повзрослеет и станет похожим на вас.
— Может, он и стал, — говорит Гарри. — Ты еще не знаешь, каким я могу быть скотом.
— Воображаю, — вставляет она. — Но это потому, что вас провоцируют.
Он продолжает свою мысль:
— В мальчишке от меня не так уж мало, я ведь вижу. — Ее шея оживает под его пальцами, наэлектризованные мягкие волоски липнут к ним. — Мне нравится, что ты носишь длинные волосы, — говорит он.
— Чересчур отросли. — Ее рука передвинулась к нему на грудь, туда, где пуговица расстегнута. Он мысленно представляет себе ее руки с покрасневшими костяшками пальцев, какие-то беззащитные, неприкрашенные. Она к тому же левша, вспоминает он. Эта ее особенность, как всякая необычность, добавляет к его шевельнувшемуся возбуждению новый градус. Быстро, пока сам не успел еще ничего сообразить, он свободной рукой отнимает ее руку от своей груди и передвигает ее пониже, к полусбритому лобку, туда, где как черт из табакерки выскочил непрошеный гость. В жесте его больше простодушного удивления, чем похоти: так ребенок спешит поделиться с другими интересным открытием — камень лежал, лежал и вдруг зашевелился, или это такая бабочка с толстым-претолстым тельцем? Ее глаза изумленно расширяются на тусклом лице всего в нескольких дюймах от его лица на подушке. У нее в ресницах застряли крохотные иголочки света. И он пускает свое лицо в плавание и, подхваченное приливной волной всколыхнувшейся в нем крови, оно преодолевает те немногие дюймы, чтобы сомкнуть губы с губами, предварительно выбрав нужный угол, в то время как ее пальцы ритмично ласкают его, не поспевая за бешеными скачками его сердца. В тот миг, когда пространство сужается и пропадает, его настигает запоздалая тревога — как же его бедное сердце? а соучастие в блуде? В их поцелуе ему чудится привкус рыбы, так удачно ею приготовленной, с лимончиком и зеленым лучком, привкус рыбы и спаржи.
Дождь хлещет прямо в сетку. Стук дождя и стук капели по подоконнику сливаются в непрерывную общую дробь. Яркая, близкая вспышка пронзает небо от края до края, и меньше чем через секунду оглушительный душераздирающий треск громового раската обрушивается сверху на дом. И словно подхваченная этим природным неистовством, Пру говорит «Черт!», соскакивает с кровати, с грохотом закрывает окно, опускает жалюзи, распахивает халат, стряхивает его с себя и, наклонившись, стаскивает через голову ночную рубашку. В темной комнате нагота ее высокого, бледного, крутобедрого тела так прекрасна, что сравнить ее можно разве только с теми грушами в цвету, в Бруэре, в прошлом месяце — ему тогда казалось, они цветут для него одного, как будто он шел, шел и вдруг забрел в кусочек рая и сам не может поверить в это чудо.
Часть третья
ИНФАРКТ МИОКАРДА
К середине июня сорняки заполонили все кругом: лопух и цикорий вымахали под три фута вдоль сухих, спекшихся, как камень, обочин шоссе 111, а уставшие бороться за выживание маленькие тисы, высаженные по линии фасада «Спрингер-моторс» для создания зеленого бордюра у витринных окон, опутаны ползучими сорняками, бодро пролезающими сквозь слой полусгнившей мульчи, которую года два никто не подновлял. Гарри в очередной раз делает зарубку в голове: не забыть вызвать озеленителей, засыпать новую мульчу и заменить погибшие тиссы, почти треть от общего числа, а то вид — хуже не придумаешь, как рот на треть без зубов. На противоположной стороне четырехрядного шоссе (движение теперь гуще и интенсивнее, чем когда-либо, хотя штат по-прежнему держится за пятидесяти-пяти-мильный-в-час лимит скорости) забегаловка под названием «Придорожная кухня», торговавшая едой навынос, уступила место шестому или седьмому по счету заведению сети «Пицца-хат» в окрестностях Бруэра. И что все находят в этой пицце? Жесткие ватрушки, сыр да тесто, а откусишь — за куском тянутся тоненькие резиновые нити, очень аппетитно! Однако по субботам, когда в предвоскресном настроении Бенни изъявляет готовность сгонять напротив и принести всем кто чего закажет, Гарри позволяет себе угоститься пиццей-пепперони[126] с луком и перчиком; только, Бога ради, без анчоусов! Уж больно они на улиток смахивают.
Сегодня, впрочем, не суббота, сегодня понедельник после праздничного воскресенья, когда все поздравляли своих отцов[127]. Гарри поздравительной открытки не получил.
Он и Дженис дважды навещали Нельсона, чтобы принять участие в сеансе так называемой семейной психотерапии, в огромном мрачном реабилитационном центре в Северной Филадельфии — кругом поручни, доски с объявлениями и сырой запах множительной техники, напомнивший ему о воскресной школе в церковном подвале, куда он ходил ребенком, — и оба раза «сеанс» выливался в кухонную свару, только в присутствии рефери, сухопарой бледно-темнокожей женщины в диковинных очках, с характерной располагающей улыбкой доброй христианки и прихожанки, такой, какая в голове у Гарри ассоциируется с лучшими представителями черной Филадельфии. Они снова пережевывают все ту же старую жвачку: гибель младенца, заскоки шестидесятых, когда Дженис съехала из дому, а Джилл с Ушлым в него въехали, безумная история с женитьбой Нельсона на секретарше из Кента, на дюйм его выше и на год старше, и ко всему еще католичке, и полубезумная история о том, как и почему молодая пара въехала в старый спрингеровский дом, а пожилая пара из него выехала, к тому же старички теперь по полгода живут во Флориде, и все для того, чтобы не мешать сыну использовать автомагазин, как ему заблагорассудится; Гарри объясняет, как, с его точки зрения, мать Нельсона всю жизнь калечит и развращает сына из-за ее собственного комплекса вины, именно в этом надо искать причину того, что парень считает себя вправе жить в мире грез и удовольствий и водить компанию с гомосеками и наркоманами и плевать на то, что его жена и дети ходят в обносках. Пока он говорит, улыбка молочнокофейной психотерапевтички становится все более и более благотерпеливой, а когда он умолкает, она обращается к следующему из присутствующих — Нельсону, Дженис или Пру — и просит прокомментировать услышанное, как будто его слова не изложение фактов, а просто сотрясание воздуха, и польза от них будет только тогда, когда их свалят в общую кучу с другими высказываниями и хорошенько все перемешают. Это обожаемое психотерапевтами «проговаривание», «раскладывание на составляющие» вообще удивительным образом обесценивает факты реальной жизни; решения, которые были единственно возможными и правильными для людей в их конкретной жизненной ситуации, представляются в виде примитивных рефлексов, уже исследованных вдоль и поперек в процессе «проработки» миллионов аналогичных случаев, — все оказывается проще пареной репы, все жевано-пережевано так, что ни вкуса, ни цвета, ни запаха не осталось. Он чувствует себя предсказуемым, заведомо просчитанным и сброшенным со счетов, что бы он тут ни говорил, и от этого нервы его все больше расходятся, а ему это вредно, и в конце концов он твердо заявляет обеим — Дженис и Пру, — что в следующий раз они поедут без него.