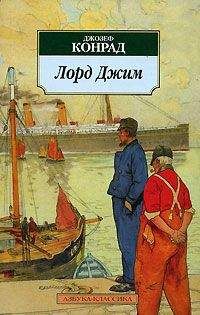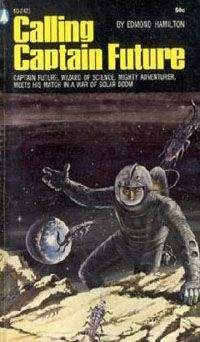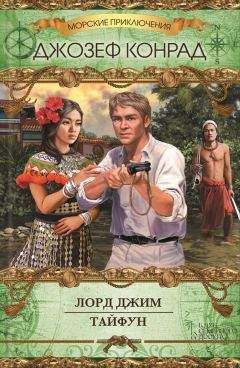На переднем конце мостика великан и пигмей часто обменивались тихими словами. За ними стоял Маеси с недоумевающей и презрительной миной. Круглые глаза его уставились в одну точку; казалось, он позабыл о своей длинной трубке, которую держал в руке.
Ниже мостика, на баке, затененном белым тентом, молодой матрос малаец перелез через поручни. Пропустив под мышками широкую полосу из парусины, он налег на нее грудью и перегнулся далеко за борт. Рукав его тонкой бумажной рубахи, отрезанной почти до плеча, обнажал смуглую руку, мускулистую, округлую, с кожей атласной, как у женщины. Грозным движением пращника он взмахнул рукой; четырнадцатифунтовый лот, кружась, взвился в воздухе, затем, метнувшись вперед, долетел до носа судна. Мокрый тонкий линь, скользя между смуглыми пальцами, со свистом развернулся, и лот, погружаясь в воду у борта судна, провел серебряный шрам на золотой ряби. Немного погодя молодой малаец протяжным голосом выкрикнул на своем родном языке глубину.
— Тига стенга! — кричал он после каждого всплеска и торопливо свертывал линь, чтобы снова его забросить.
«Тига стенга» означает три с половиной сажени. На протяжении мили до самого устья реки глубина была одинакова.
— Три с половиной. Три с половиной. Три с половиной, — и его модулирующий голос, звучавший монотонно, как повторный крик птицы, казалось, уплывал в сиянии солнца, таял в безмолвии пустынного моря и безжизненного берега, в открытом пространстве, тянувшемся на север, юг, восток и запад, где не видно было ни тени облака, не слышно шепота других людей.
Механик — владелец «Софалы» — продолжал неподвижно стоять позади двух моряков, отличающихся друг от друга расой, религией, цветом кожи. Европеец, своей мощной фигурой бросающий вызов годам, и маленький малаец, тоже старый, но тощий и сморщенный, словно увядший коричневый лист, который по воле ветра приютился в тени того, другого. Внимательно смотрели они вперед, на сушу, и у них не было времени отрываться от дела.
А Масси, смотревший на них сзади, казалось, видел в этой преданности долгу неуважение к собственной своей особе.
Это было неразумно, но уже много лет он жил бессмысленной досадой в своем особом мире. Наконец, проведя влажной ладонью по редким прядям жестких волос на макушке своей желтой головы, он медленно заговорил:
— Вам нужен лотовой! Должно быть, вы считаете это необходимым, чтобы вести пароход. Неужели вы не можете, глядя на берег, определить, где вы находитесь?
Я не плавал здесь и двенадцати месяцев, как уже постиг эту штуку… а ведь я всего-навсего механик. Я могу вам отсюда указать, где находится гряда, а кроме того, могу вас уведомить, что вы минут через пять посадите судно на мель. Но, пожалуй, вы заявите, что я вмешиваюсь не в свое дело. А в нашем договоре сказано, что вмешиваться я не должен.
Он замолчал. Капитан Уолей все с тем же суровым, напряженным лицом пошевелил губами и прошептал:
— Близко ли, серанг?
— Очень близко, тюан, — быстро пробормотал малаец.
— Тихий ход! — громко, твердым голосом сказал капитан.
Серанг схватился за ручку сигнального аппарата. Внизу ударил гонг. Масси, презрительно усмехаясь, отошел и просунул голову в люк машинного отделения.
— Можете ждать дурацких распоряжений, Джек! — заорал он.
Помещение, куда он заглядывал, было глубоким и темным; серые отблески стали внизу казались холодными после резкого сияния моря вокруг судна. Но воздух, пахнувший ему в лицо, был горячим и липким. Отрывистый гулкий крик, которому невозможно было дать какое-либо истолкование, раздался снизу. Так отвечал своему начальнику второй механик.
Это был человек средних лет, рассеянный, молчаливый, и, казалось, до того поглощенный своими машинами, что как будто разучился говорить. Когда обращались непосредственно к нему, единственным его ответом было ворчание или гулкий крик — в зависимости от расстояния.
За все те годы, которые он провел на борту «Софалы», никто ни разу не слыхал, чтобы он обменялся дружелюбными приветствиями с кем-нибудь из своих товарищей.
Казалось, он не замечал, что люди приходят и уходят, он как будто вовсе их не видел. На берегу он никогда не узнавал товарищей по судну. За столом (четверо белых на борту «Софалы» обедали вместе) он бесстрастно смотрел в свою тарелку, а в конце обеда неожиданно вскакивал и бежал вниз, словно что-то побуждало его пойти и посмотреть, не украл ли кто машины, пока он обедал.
В порту — по окончании рейса — он регулярно сходил на берег, но никто не знал, где и как проводит он свои вечера. На местных каботажных судах была популярна нелепая туманная легенда о его любовном увлечении женой сержанта ирландского пехотного полка. Много лет назад полк нес здесь гарнизонную службу, а затем перебрался неведомо куда, в другое полушарие. Два или три раза в год механик выпивал лишнее. В таких случаях он возвращался на борт в более ранний час и пробегал по палубе, растопырив руки и балансируя, словно канатный плясун; заперев дверь своей каюты, он всю ночь напролет беседовал и спорил сам с собой на разные тона: гневно, насмешливо, плаксиво — с изумительной настойчивостью. Масси на своей койке в соседней каюте, приподнявшись на локте, обнаруживал, что второй его механик помнил имена всех белых, когда-либо служивших на борту «Софалы». Он вспоминал имена людей, уже умерших, имена вернувшихся на родину и тех, что уехали в Америку.
В пьяном виде он вспоминал людей, которые так недолго были связаны с судном, что Масси позабыл, при каких обстоятельствах они служили, и едва мог воскресить в памяти их лица. По другую сторону переборки механик пьяным голосом обсуждал их поведение, с исключительной язвительностью измышляя скандальные истории.
Выходило так, что все они чем-то его оскорбили, а он в отместку их всех раскусил. Он злобно бормотал, саркастически смеялся, сокрушал их одного за другим, но о своем начальнике Масси лопотал с завистливым и наивным восхищением:
— Умный негодяй! Таких не каждый день встретишь.
Вы только посмотрите на него! Ха! Великий человек!
Собственное судно. Уж он-то не собьется с толку. Э, нет, этакая скотина!
А Масси, приняв с довольной улыбкой эту бесхитростную дань своему величию, начинал кричать и колотить кулаками в переборку:
— Заткните глотку, сумасшедший! Дайте мне спать, идиот!
Но горделивая улыбка играла на его губах. Одинокий ласкар[4], державший ночную вахту в гавани, — быть может, юноша, недавно пришедший из лесной деревушки, — неподвижно стоял на темной палубе, прислушиваясь к несмолкаемой пьяной болтовне. Сердце его замирало от благоговейного страха перед белыми людьми, властными и упрямыми людьми, которые неумолимо преследуют свои непостижимые цели, — перед существами, которые говорят со странными интонациями и руководствуются необъяснимыми чувствами и неисповедимыми мотивами.
После ответного крика второго механика Масси еще некоторое время мрачно стоял над люком машинного отделения. Капитана Уолея, который с помощью пятисот фунтов удерживал за собой командование в течение трех лет, можно было заподозрить в том, что он никогда еще не видел этого берега. Казалось, он не в силах был опустить бинокль, как будто приклеившийся под сдвинутыми его бровями. Эти нахмуренные брови придавали ему вид неумолимо суровый, но поднятый его локоть слегка дрожал, а пот струился из-под шляпы, словно в зените внезапно вспыхнуло второе солнце рядом с неподвижно застывшим в небе пламенным шаром, в ослепительно белых лучах которого земля кружилась и сверкала, как пылинка.
Время от времени, все еще не опуская бинокля, он поднимал руку, чтобы вытереть влажное лицо. Капли стекали по щекам, падали, словно брызги дождя, на белую бороду… и вдруг, как будто руководимая необъяснимым и тревожным импульсом, рука его потянулась к сигнальному аппарату машинного отделения.
Внизу прозвучал удар гонга. Сдержанная вибрация парохода, шедшего тихим ходом, совершенно прекратилась, смолкли все звуки, словно великая тишина, объявшая берег, прокралась сквозь железные бока судна и завладела самыми сокровенными его уголками. Иллюзия полной неподвижности, казалось, спустилась на судно с лучезарного голубого купола, который раскинулся над гладью моря, не тронутого рябью. Легкий бриз, пробужденный ходом судна, стих, как будто воздух сделался слишком густым; не слышно было даже тихого журчанья воды у носа. Узкое длинное судно продвигалось, не оставляя за собой ряби, и, словно крадучись, приближалось к мелководью. Унылый монотонный крик ласкара, бросавшего лот, раздавался все реже и реже, и люди на мостике, казалось, затаили дыхание. Малаец у штурвала пристально смотрел на картушку компаса; капитан и серанг не сводили глаз с берега.
Масси отошел от люка и, неслышно ступая, вернулся к тому самому месту на мостике, где стоял раньше. Он усмехался, обнажая ряд крупных белых зубов; в тени под тентом зубы блестели, словно клавиши рояля в полутемной комнате.