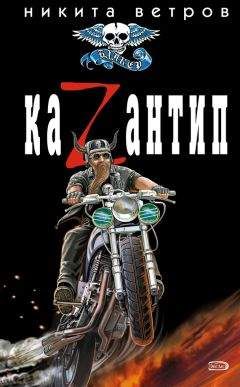— Разве таким должен быть словесник? — с возмущением спрашивала я себя и своих новых приятельниц. — Вот в 74-й школе литератор так литератор!
Действительно, это был Учитель!
На всю жизнь запомнила я тот день и тот миг, когда Павел Николаевич Коротаев в первый раз вошел в наш седьмой класс. Выше среднего роста, статный, в черном, старинного покроя одеянии (то ли во фраке, то ли в смокинге), в белоснежной сорочке с накрахмаленной грудью и манжетами. Вместо галстука черная бабочка. Изящные жесты, порхающая походка. Не педагог, казалось, это был — Артист! Разинув рты, мы, семиклассницы, взирали на него.
— Прим-балерина! — выкрикнула одна из "воображуль". Не обратив внимания на эту реплику или оставшись довольным тем, какое дали ему прозвище, учитель начал урок — стал читать. Н.В.Гоголь. "Ревизор". Читал один, перевоплощаясь то в Хлестакова, то в его слугу, то в городничего и т. д. Мы хохотали, как помешанные. Когда прозвенел звонок, мы даже в ладоши захлопали, а потом рассыпались по этажам, чтобы узнать, кто он и откуда. Выяснили: актер по призванию, учитель по несчастью. 29 лет. Холост. Живет вдвоем с матерью. Следующего урока литературы ждали, точно дива. Каждый его урок был для нас чудом. Он владел классом безраздельно. Словно загипнотизированные, мы подчинялись его воле. Декламировать старались, как учил он. Предложения на уроках русского языка разбирали по его методу, "вынашивали", как он советовал, темы сочинений. Соревновались, кто лучше напишет. Фантазировали, описывали, расписывали. Я стала бредить литературой. Помню, как вышла из себя, когда, читая характеристику, выданную мне по окончании 7 класса, дошла до слов: любимый предмет — математика. Да, по этой дисциплине успевала я лучше всех в классе. Учительница ставила мне по несколько пятерок за урок. А Коротаев по литературе почти одни четверки. Но это еще ничего не доказывало! Ничто на свете не увлекало меня сильнее, чем этот, такой трудный, но зато такой интересный предмет. Я хотела, чтобы это известно было всем! Пришлось классной руководительнице переписывать упомянутый выше документ.
К оценке знаний своих учениц Павел Николаевич подходил очень строго. Спуску никому не давал, в том числе и дочерям высокопоставленных особ. Однако, при всей своей требовательности, он не был сухарем. Любил поразвлечься на уроке, если представлялась возможность, и нас, своих учениц, развеселить. Проверяя наши сочинения, выписывал все неправильно построенные предложения, подгонял их одно к другому, потом это "попурри" зачитывал нам. Мы до упаду хохотали сами над собой. А он над нами. Но мы не обижались. Если кто-то, отвечая у доски, допускал стилистические ошибки, он, учитель, указывая на них, затевал с автором корявой фразы веселые пререкания, втягивая в них и тех, кто сидел на местах. Я тоже ошибалась. Не зря же имела по литературе не "5", а "4". Подводило меня мое происхождение. Конкретно — то, что дома у нас звучала не литературная, а разговорная, народная речь и я, сама того не осознавая, использовала и в сочинениях, и в устных ответах словечки из маминого лексикона. Но он, Коротаев, снижая оценку, не выставлял меня на посмешище. Видя, что я из кожи лезу, стараясь получить высший "балл", заставлял работать всех больше. Когда диктовал какой-то текст, вызывал меня к доске. Другие писали в тетрадях, а я на доске. Потом то же самое должна была "перекатать" на бумагу. Делать двойную работу. Но я не роптала: понимала, что это пойдет мне на пользу. Если я допускала орфографическую ошибку, он, исправляя ее, ликовал. Ага, мол, попалась! Пока пятерку не проси. Четверкой будь довольна.
Шуметь на уроках не позволял никому. Стоило кому-либо из девчонок повернуться к соседке и только рот открыть, собираясь что-то сказать, он свирепел. Я на его уроках не позволяла себе не только болтать, но и кашлянуть. Но однажды все-таки провинилась перед ним. Подвела меня Зина Медведева, с которой мы сидели за одной партой. Эвакуированная из Ленинграда. Испытав немало горя, эта девочка была себе на уме. Мы дружили с нею. Я от нее, как и она от меня, ничего не скрывала (какие могут быть тайны в 13 лет!), тем не менее ей захотелось вдруг добраться до моего дневника, не школьного, а личного. Тут сразу надо сказать, что дневник я стала вести с седьмого класса, по совету того же учителя словесности. И выбрала же хитрая Зинка для своей "вылазки" момент: во время урока литературы, когда Коротаев читал с вдохновением отрывки из "Молодой гвардии", а я, затаив дыхание, внимала ему. Засунув руку в мой портфель, Медведева извлекла из него толстую, в клеенчатом переплете тетрадь. И сделала это так ловко, что я ничего не заметила. Учитель тоже. Спохватилась я лишь тогда, когда "секретник" мой очутился у Зинки в руках и она, раскрыв его у себя на коленях, принялась читать какую-то страницу сквозь щель в парте. Позабыв про всякую осторожность, я, естественно, вцепилась в свою собственность и стала тянуть к себе. Зинуля сидит смирно, скромно потупив глазки и покраснев. Очень красивый был у нее цвет лица. Кожа белая-белая, а румянец алый-алый. Кровь с молоком. Никогда не подумаешь, взглянув на такое личико, что оно принадлежит проказнице.
Я тяну, дергаю, а она держит. Я задыхаюсь от волнения. Она — само спокойствие. И тут на весь класс учитель как гаркнет:
— Русанова! Вон! И завтра без матери в школу не приходи!
До сих пор мои родители являлись в школу только на собрания (в основном мама). А на собраниях им доводилось слушать, когда речь заходила обо мне, лишь одну похвалу. И что же теперь будет? Теперь станут меня ругать! Мои сестры, старшая Галина и младшая — Лида, учились плохо. В той же школе. Маме частенько приходилось краснеть за них (об этом говорится в моем рассказе "Рядом с добрыми"). А теперь ей придется краснеть и за меня! Такое и в мыслях я не могла допустить! Это же просто кошмар! Если бы я на самом деле провинилась! Ну как я буду своей бедной маме объяснять, что произошло, оправдываться перед ней?..
Я расплакалась. Покинув класс, стояла на лестничной площадке между третьим и четвертым этажами, у окна, и поливала горючими слезами подоконник. Страдая, не услышала даже, как прозвенел звонок. Очнулась, когда кто-то дотронулся до моего плеча. Повернула голову — он. Смотрит на меня, улыбаясь:
— Не надо, Русанова! Не приводи мать!
Я, конечно, не стала разъяснять ему, что между мной и Медведевой произошло, не сочла возможным подвести подругу, наябедничав на нее, а ему за то, что пожалел и простил меня, осталась благодарна…
После этого инцидента, убедившись, насколько серьезно я отношусь к учению, Учитель стал еще больше уделять мне внимания как ученице: спрашивать чаще, поручал делать доклады не только на своих уроках в классе, но и на вечерах, на которых присутствовали приглашенные из мужской школы мальчики. Замечая мои успехи, меня он особо не расхваливал. Не знаю, чем объяснялась эта его сдержанность. Или перехвалить боялся, или не хотел настраивать против меня одноклассниц. Но однажды, когда какое-то из моих сочинений на свободную тему понравилось ему, он отнес его в городскую газету и оно было напечатано, чем я осталась, разумеется, очень довольна.
Поддержка любимого учителя очень много значила для меня. Дальнейшее пребывание в 74-й школе виделось мне в радужном свете. Я горела желанием учиться. И вот именно теперь, когда до окончания средней школы оставалось два года с небольшим, нашему отцу по месту работы вдруг выделяют квартиру в другом микрорайоне города. Однокомнатную, но со всеми удобствами (до этого, как уже было сказано, мы жили в бараке). И я была вынуждена перейти в другую школу, по новому месту жительства. Тоска по Учителю с большой буквы оказалась просто невыносимой. И я явилась к директору этой самой другой школы и призналась, не думая о последствиях: "Мне здесь не нравится, я хочу вернуться туда, откуда пришла". Я не вспомню сейчас, кто тогда был директором смешанной школы. Возможно, я разговаривала вовсе не с директором, а с его секретарем или завучем. Это была женщина и очень сердитая. Мое требование отдать мне документы восприняла, должно быть, как оскорбление всему педагогическому коллективу. И даже, если память мне не изменяет, пообещала, что я еще пожалею о своем необдуманном поступке. Вышло все так, как она мне напророчила. Восьмой класс я окончила в женской школе. Помню, с каким чувством, стоя у доски, читала письмо Татьяны к Онегину, воображая себя Татьяной. Литератор, конечно, понял, что я не просто отвечаю урок, а объясняюсь ему в любви, и хитро улыбался, слушая меня, да головой еле заметно покачивал. Ему, надо полагать, было известно, что все старшеклассницы, все поголовно, в него влюблены. Возможно, это его забавляло, но не могло не льстить…
Очень не хотелось мне расстаться уже насовсем со школой, которую посещала в течение долгих восьми лет. Но пришлось. Добираться с одного берега реки Урал, где мы теперь жили, до другого, где находилась женская школа, было очень трудно. В новый микрорайон от центра не ходили пока ни трамваи, ни автобусы. Те, кто трудился в каком-либо цехе металлургического комбината, расположенного на левом, а жил на правом берегу, ездили на работу в грузовой машине, влезая в кузов через борт. Я тоже в течение двух или трех месяцев ежедневно, утром и вечером, должна была проделывать то же самое, рискуя сорваться во время посадки или быть выброшенной из грузовика во время его движения и травмироваться.