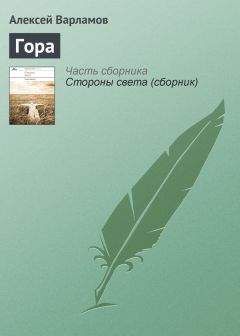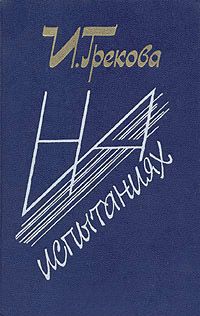Юра трудно приживался в отцовском доме, но все же приживался — отходил, оттаивал. Мальчик был сложный, вниманием не избалован, подолгу, видно, недоедал, чем-то был напуган. Было у него что-то в прошлом неладное — какие-то товарищи, мучившие его и, может быть, вовлекшие во что-то грязное... Он кричал по ночам, кого-то гнал, плакал, ругался плохими словами, и глаза у него, если зажечь свет, были загнанные, как у львенка в зоопарке. Страдал непонятными страхами: боялся солнца, боялся форменной фуражки, не мог привыкнуть видеть ее на отце. Время от времени на него находили странные приступы: он как бы окаменевал, тупо уставившись в одну точку; из этого состояния его нельзя было вывести, и оно особенно пугало Веру (тяжелая болезнь матери была душевная). А иногда он вдруг становился обычным мальчиком своих лет — бегал, смеялся, играл с котом. Кот Кузьма был нескончаемым источником удовольствий: его титаническая лень, вычурные позы, в которых он засыпал при любых обстоятельствах (например, на весах, когда его взвешивали), его философское равнодушие к суете земной, скажем, к бумажному бантику... Все это восхищало и забавляло Юру, словно бы он отгораживался котом от своего прошлого, весь был тут и светился... И вдруг, в разгаре игры, внезапным ударом — молчание, тупость, пустой и враждебный взгляд...
Развитие у Юры было тоже странное, неровное. Запас представлений довольно богатый. Знал множество слов, зачастую замысловатых, книжных. И наряду с этим — глухое невежество. Не мог сложить два и три. Не знал, в какой стране живет, как его фамилия. Прекрасная память: мог запомнить с одного раза не только стихотворение — длинный рассказ. А ни одной буквы не знал. Вера учила его читать; хитрый мальчишка притворялся, что читает, а на самом деле просто шпарил наизусть то, что однажды слышал... Вера билась с ним, мучилась, но все ее старания шли без отклика, как будто в вату... Иной раз она не спала по ночам, придумывая: как бы ей подобраться к Юре?
А Александр Иванович сыном не особенно интересовался. Днем приходил домой только обедать, и к его трапезе мальчик не допускался: то был священный ритуал домашнего уюта, красиво накрытого стола; и жена должна была быть преданной, внимательной, улыбающейся. Вечером, когда отец возвращался, Юра обычно уже спал или из осторожности делал вид, что спит. В выходные дни Александр Иванович читал, играл сам с собою в шахматы, а Юра старался не попадаться ему на глаза. Изредка встречая сына, Ларичев спрашивал: «Как дела?» И, получив ответ «хорошо», вполне этим удовлетворялся. Однажды вечером, придя домой раньше обычного, Ларичев застал Верочку за сентиментальным занятием: она укладывала Юру спать и целовала его на ночь. Александр Иванович скривился, как от кислого, поднял бровь и сказал: «Ну, это уже лишнее». С тех пор Вера таила от него свою незаконную любовь, как преступление. Больше всего она боялась, что Анна Петровна выздоровеет и заберет сына.
Веселая, дружелюбная Верочкина любовь делала исподволь свое дело. Юра менялся к лучшему. Он поздоровел, вырос, стал смешлив, даже проказлив, что несказанно ее радовало. Наконец-то выучил буквы и начал читать по-настоящему. Обнаружил способности к рисованию. Вера купила ему карандаши, краски, альбом и с материнской гордостью показывала его рисунки всем, кто соглашался смотреть (Шунечке, разумеется, и не предлагала). В альбоме больше всего было портретов Кузьмы, который вдохновлял Юру, как Саския — Рембрандта. В общем, дело шло на лад: Юра, выросший, похорошевший, с милой улыбкой на открытом лице, стал ей радостью, гордостью, помощником в доме, в саду. Смеясь, они пели вдвоем старый-престарый романс про белую чайку (особенно дорог был ей этот романс), и она рассказывала Юре про море (он никогда не видел моря), про чаек (он их видел на Чусовой) и про свою встречу с Александром Ивановичем («В это время из-за камня выходит человек, и это был твой папа»...).
Юра уже прожил у нее больше года — скоро ему должно было исполниться восемь лет. Пора в школу... Вера загодя закупила тетрадки в косую линейку, пенал, ручку, резинку с зайцем... Наступит осень, и ее сын (он был ее сыном, был!) пойдет в школу, принесет пятерку... Что там — пятерку! Пусть двойку!
Но вот однажды вечером Александр Иванович пришел мрачноватый — брови вместе — и сказал:
— Собирай Юрку. На днях повезу его в интернат.
Ее словно ударило...
— Как? Зачем? Какой интернат?
— Для сирот военнослужащих, в нашей же области. Хлопотал, приняли. Мальчишка все равно что сирота. Мать неизвестно когда выйдет, и выйдет ли. Пора его пристроить к делу. Все. Все рисуночки, Кузьма, бабьи фокусы — побоку. Должен расти мужчиной. Условия в интернате прекрасные — дисциплина, обучение — все.
— Он бы мог ходить в школу здесь, в поселке...
— Хороша школа! Учителя сами не знают, чему учат.
— Я бы ему помогала...
— Воображаю. А еще мог бы ему помогать Кузьма.
— Я...
— Верочка, вопрос решен. Ясно?
— Ясно...
— В общем, собирай мальчишку. Одежду вычисти, белье постирай, носки перештопай. Через неделю я сам отвезу его.
...Поезд ушел. За пыльным окном пропало бледное Юрино лицо. Так и не успела толком попрощаться: мальчик, как всегда, дичился в присутствии отца. Отвернулся. Запомнилась пушистая щека, нежное ухо, тонкая шея в белом воротничке, но не взгляд, взгляда не было. Увезли сына. В голове все еще стучали колеса, увозившие сына. Она села в казенную машину и поехала домой степью, голой как стол. Дома было пусто, узенькую койку из столовой надо было убрать. Вера стала на колени перед этой коечкой, опустила голову на детскую подушку, пахнувшую миндальным мылом, и на несколько минут замерла. Потом встала и принялась за работу.
Шунечка вернулся через неделю.
— Вера, это ты?
Кто-то заглядывал в окно со двора. Невысокая стройная женщина в беретике, в детских туфлях... Неужто Маша?
— Машенька! — завопила Вера немузыкальным голосом и кинулась к двери. И точно — Маша! Чудо чудное, диво дивное!
— Сама приглашала, а сама не ждешь, — смеясь, говорила Маша. — Ну, как, принимаешь гостью?
— Еще спрашиваешь!
Объятия, поцелуи. Поцелуи, объятия. Конца им нет. У Веры — слезы, у Маши — нет, но тоже, видно, обрадована.
— Красиво у тебя.
— Нравится?
— Очень нравится. Только, должно быть, массу времени это стоит. Времени и сил. Души.
«Любви, — подумала Вера, — про любовь не забудь».
— Машенька, раздевайся, устраивайся. Где твои вещи?
Вещей был крохотный чемодан, не чемодан даже — баульчик. Старенький, потертый, с испорченным замком, веревкой перевязанный, чтоб не открывался. Вера опять прослезилась, глядя на ту веревочку, — как похоже на Машу!
— Спать будешь здесь, в столовой. Нравится тебе?
— Слишком нравится. Лучше все это не было бы так роскошно. Я к роскоши не привыкла.
— Бог с тобой, какая роскошь? Обыкновенный уют.
— Обыкновенный уют и есть самая большая роскошь.
...Бог ты мой, все та же Маша, и волос из уса торчит.
— Ну, садись же, рассказывай. Как живешь?
— Нормально. Работаю как оглашенная. В этом году оперировала грыжу, делала две резекции желудка... Без осложнений.
— С мужем не помирились?
— Что ты! Я еще с ума не сошла.
— За другого не собираешься?
— Пока нет.
— Только пока?
— Думаю, что вообще. Сошлась с женатым.
— Да что ты?! — ахнула Вера.
— Вот, так получилось.
— Любишь его?
— Ужасно.
— Больше всего на свете?
— Угу.
— И как же ты... Не стыдно тебе, что женатый?
— Не стыдно.
...Ну и Маша. Только подумать: сошлась с женатым — и ничего. Даже как будто гордится. Это еще надо усвоить...
— Что же это мы с тобой: болтаем-болтаем, а тебе надо умыться с дороги, переодеться, покушать...
— Переодеваться мне не во что, умоюсь охотно, поем тоже.
Какой-то у Маши стал телеграфный стиль. Вера отвела ее в свою «ванную» — угол за перегородкой, где стояли тазы, ведра, кадки с водой, фикус, где полно было пышных розовых полотенец, где даже висело зеркало. «Стародворянская обстановка», — сказала Маша.
— Это еще что! Скоро мы настоящую ванну поставим, воду проведем, канализацию. Здесь у нас будет душ, а здесь — смотри — уборная. Верно, уютно?
— Как в «Гранд-отеле».
Лицо Верочки сияло гордостью за свой дом, свои труды, будущий водопровод, канализацию...
Когда Маша умылась, она накормила ее обедом, сокрушаясь, что не знала заранее, а то бы...
— Еда была прекрасна, — сказала Маша. — Нет, еда была прелестна.
— Ну, какая это еда? Вот завтра я тебя накормлю настоящим обедом. Ты не знаешь, что такое настоящий обед?
— Знаю. Тот, которым ты меня накормила. Сверх этого будет уже безнравственно.
После обеда Верочка с Машей сняли туфли, завалились на супружескую тахту, по уши в подушках, и начали болтать. Главным образом про любовь — вечная женская тема, никогда не иссякающая. Маша рассказала, как встретилась с «женатым», как у них все получилось, как впервые поцеловались, что сказал он и что она ответила...