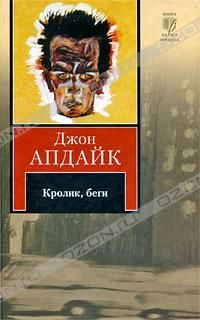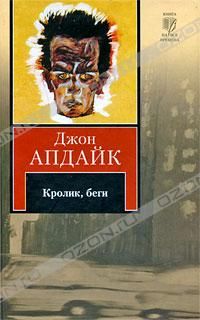— Да почему же нам, не мы же накрутили такую сумму долга «Тойоте»? Нельсон и его дружочки-голубочки!
— Ты можешь сколько угодно повторять это, но ему самому не расплатиться, а действовал он от лица фирмы.
— Ну, а магазин? Почему тебе не продать магазин? Такой участок земли прямо на 111-м, да за него отвалят кучу денег, это же теперь фактически центр города, старый-то из-за пуэрторикашек все теперь стороной обходят.
На лице у Дженис мелькает болезненное выражение, открытый, лишившийся челочки лоб собирается в складки; в кои-то веки, доходит тут до него, он не поспевает за ее мыслью.
— Ни за что, — коротко отрезает она. — Магазин — наше главное достояние. Мы обязаны сохранить его как фундамент, на котором будет построено будущее Нельсона, будущее твоего сына и твоих внуков. Папа, я знаю, распорядился бы точно так же. Помню, как он купил свой «пятачок», сразу после войны — тогда там была сельская заправочная, на краю кукурузного поля, в войну она бездействовала, машин-то никаких не было... да, так вот он повез нас с мамой на место посмотреть, что да как, и я, конечно, сразу отыскала на задворках свалку — в зарослях ежевики, ты потом назвал этот кусок участка Парагваем, — куча всяких старых железок от автомобилей и еще зеленые и коричневые лимонадные бутылки, просто клад для меня тогда, и я радовалась, будто невесть какие сокровища откопала, школьное платье все как есть перепачкала, уж досталось бы мне от мамы, будь уверен, если бы папа первый не рассмеялся, он ей сказал, что у меня, видать, нюх на машины, значит, толк будет. «Спрингер-моторс» не продается, пока я жива и пребываю в здравом уме и трезвой памяти, Гарри. И к тому же, — добавляет она, стремясь несколько сгладить свою категоричность, — я ничего не смыслю в купле-продаже производственных площадей. Зато если продавать наш дом, я все проверну сама и получу половину агентских комиссионных. Я буду не я, если мы не выручим за него две сотни; половина от шести процентов при цене двести тысяч — это шесть тысяч долларов, мне в карман!
Он опять не может за ней угнаться.
— Ты сама все провернешь — то есть ты лично?
— Ну конечно, какой ты непонятливый, я лично — для какой-нибудь риелторской фирмы. Это будет моя, так сказать, «вступительная» сделка, для меня это лучшая рекомендация. Сам подумай, смогут ли, к примеру, «Пирсон и Шрак» или тот же «Подсолнух» не взять меня на работу агентом, если я с ходу принесу им такой отличный вариант?
— Погоди-ка. Значит, большую часть года мы, предположим, будем жить во Флориде...
— Какую-то часть года, милый, какую-то. Я пока не знаю, на сколько мне удастся отлучаться, особенно вначале, пока я не заработаю солидную репутацию. И Флорида, если по совести, немножко скучная, разве нет? Все там ровное, плоское, из знакомых у нас там одни старики.
— А в остальное время мы, значит, будем жить в мамашином старом доме? Куда же денутся Нельсон и Пру?
— Никуда, там же и останутся, разумеется. Гарри, да что с тобой? Это у тебя, видно, от таблеток. Много принимаешь? Жили же мы втроем с Нельсоном в одном доме с мамой и папой. И ведь неплохо жили, разве нет? Даже очень хорошо. Нельсону и Пру всегда будет на кого оставить детей, а мне не придется одной тащить на себе все хозяйство.
— Какое такое хозяйство?
— Ты этого, понятно, не замечаешь, мужчинам кажется, что все в доме делается само собой. Но в действительности обычная рутина отнимает уйму времени, жить на два дома совсем не просто. Ты же сам всегда переживаешь, как бы нас не ограбили, пока мы в отъезде. А при таком раскладе у нас будет своя комната у мамы, то есть у Нельсона, я абсолютно уверена, что они уступят нам нашу прежнюю спальню, и мы будем раз и навсегда избавлены от ненужных волнений, подумай!
Ага, вот и старые знакомые: ленты-удавки, больно врезаясь, снова стиснули ему грудь. Слова даются ему с трудом:
— Как Нельсон и Пру относятся к тому, что мы к ним переедем?
— Я пока еще их не спрашивала. Хотела сегодня вечером обсудить это, после того как выясню твою реакцию. Честно говоря, я не вижу, как они в этой ситуации могут быть против — по закону дом принадлежит мне. Итак. Что скажешь?
Глаза ее, которые он так привык видеть темно-угрюмыми и опасливыми, нередко замутненными то хересом, то кампари, сейчас сияют от радостного предвкушения первой самостоятельной сделки.
Он сам не может понять свои чувства. Было время — правда, он тогда сам был моложе, — когда любая перемена, даже грозящая обернуться полным крушением, веселила ему сердце самой возможностью хорошей встряски, вторжения чего-то нового, неизведанного в привычный порядок вещей. Но в его нынешнем состоянии на первый план выступает идущее изнутри боязливое, стреножащее его нежелание быть выкорчеванным из родной почвы.
— Скажу, что мне тошно думать об этом, во всяком случае, сейчас, вот так сразу, — говорит он ей. — Мне совсем не улыбается опять жить постояльцем при ком-то. Мы были в таком положении пятнадцать лет, пока наконец не вырвались. Никто теперь так не живет — друг у друга на голове, все поколения под одной крышей.
— Живут, милый, еще как живут — сейчас вообще такая тенденция намечается, жилье дорожает, а количество жителей неуклонно растет.
— А если у них еще дети появятся?
— Не появятся.
— Ты-то откуда знаешь?
— Знаю, и все. Мы с Пру говорили как-то об этом.
— Интересно, у Пру никогда не возникает ощущения, что свекровь слишком на нее давит?
— С чего бы у нее возникли такие ощущения? Мы обе стремимся к одному и тому же — видеть Нельсона здоровым и счастливым.
Кролик только пожимает плечами. А ну ее, пусть себе варится в собственном соку, тупоголовая самодовольная пигалица. Они ж теперь образованные, им же теперь все про всех известно.
— Давай съезди к ним после ужина — посмотрим, как они примут твой безумный план. Лично я категорически против, если, конечно, мой голос что-то значит. Продавай магазин, и пусть мальчишка сам вкалывает — вот тебе мой совет.
Дженис отрывает взгляд от микроволновки, отщелкивающей положенные минуты, и вдруг подходит к нему вплотную и снова дотрагивается до его лица загадочным, словно нашаривающим жестом и всем телом к нему прижимается, напоминая ему, чисто сексуально, какая она миниатюрная — и какой он, в сравнении с ней, громадный: так было, когда они только узнали друг друга, так остается и поныне. Он вдыхает запах ее легких, с проседью волос и видит красноватые белки ее глаз.
— Конечно, твой голос очень много значит, родной мой, больше всех остальных, вместе взятых. — С каких это пор Дженис стала называть его «родной»? С тех пор как они обосновались во Флориде и стали якшаться со всей этой южной публикой и с евреями. Тамошние еврейские супружеские пары такие уютные, домашние, как старые разношенные туфли, и мужчины принимают свою жизнь так, будто никакой другой у них и быть не могло, и, кажется, вполне ею довольны. Великая у них религия, думает Кролик, если можешь закрыть глаза на обрезание.
Они с Дженис на время прекращают говорить о доме, но пока они ужинают, больная тема молчаливо присутствует за столом. Потом он помогает ей прибрать на кухне, и они добавляют еще несколько тарелок к тем, что уже давно дожидаются своей очереди в посудомоечной машине. Их ведь всего двое, и Дженис к тому же почти не бывает дома, не один день проходит, пока машина загружается полностью. Она звонит Нельсону — убедиться, что они никуда не уходят, снова надевает белую кофточку, снова садится в «камри» и уезжает в Маунт-Джадж. Чудо-Женщина. Кролик успевает ухватить самый конец новостей с Дженнингсом — серия старых, подрагивающих черно-белых фрагментов из кинохроники о начале Второй мировой войны: вторжение в Польшу (завтра пятидесятилетняя годовщина), танки против кавалерии, вопящий Гитлер, обеспокоенный Чемберлен; затем он выходит в сумерки, к полчищам комаров, чтобы поаккуратнее сложить начавший уже подсыхать хворост в углу участка позади цементного пруда с выцветающим синим дном и расползающимися трещинами. Домой он возвращается, когда по телевизору идут последние десять минут викторины «Колесо фортуны». Ай да Ванна[159]! Как плавно она выступает! Как элегантно хлопает в ладоши, пока вращается колесо! Глядя на нее, нельзя не испытывать гордости оттого, что ты, наравне с ней, принадлежишь к роду двуногих млекопитающих.
Под конец очередной серии «Шоу Косби», шедшего этим летом в повторном показе (одна из серий, где все бесконечно вертится вокруг трудного подростка Тео), Гарри неудержимо клонит в сон — его, конечно, угнетает мысль, что Дженис надумала продать дом, но он успокаивает себя тем, что до реализации этих замыслов дело почти наверняка не дойдет. Уж очень она несобранная. В голове у нее вечно сумбур; скорее всего мамаша с сынком будут и дальше плыть по воле обстоятельств, все больше увязая в долгах, как, впрочем, и весь мир вокруг; и банк будет смотреть на это сквозь пальцы до тех пор, пока магазин еще что-то стоит. «Филлисы» играют на выезде в Сан-Диего, да все равно они только на шестом месте. Он почти полностью убирает звук в телевизоре и под убаюкивающее подрагивание обеззвученных картинок на экране вытягивает ноги на подушке, которую они, переезжая в свой дом, забрали из дома мамаши Спрингер, и усаживается поглубже в серебристо-розовом кресле, купленном ими лет десять назад в магазине Шехнера. Плечи у него ноют после сегодняшней работы в саду. Он вспоминает о своей исторической книжке, но она осталась в спальне наверху. Слышно негромкое постукивание за окнами с ромбовидными переплетами: дождь, как в тот вечер в начале лета, когда он выписался из больницы, — узкая комната с безголовым портновским манекеном, другой мир, страна грез. Звонит телефон, и он просыпается. По дороге к аппарату в прихожей он кидает взгляд на часы, вмонтированные в термостат: 9:20. Дженис что-то загостилась. Он надеется, что это звонит не очередной наркоторговец с напоминанием о долге или с сообщением о новой партии «товара». И как только этим барыгам от наркобизнеса удается разбогатеть, в их действиях нет никакой согласованности, тычутся наугад, авось повезет. Когда он уснул в кресле, ему снился сон про то, как он отчаянно сражается с кем-то невидимым; сама борьба происходила как-то смазанно и невразумительно, но место он видел отчетливо, там был купол над головой, как в старых железнодорожных вокзалах, только потолок был пониже и побелее, скорее похоже на часовню, довольно тесную, и этот образ еще цепляется за его сознание, и сквозь сонную одурь рука его кажется невероятно старой и странной (кисть сверху распухшая, бугристая, пальцы высохшие), когда он тянется к трубке на стене.