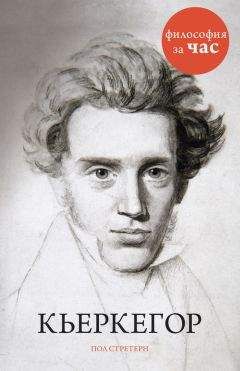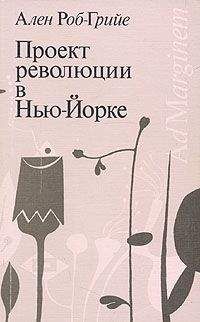Кофе и впрямь такой крепкий, что вызывает тошноту. Как он не похож на то, что называют американским кофе… Пересилив себя, путник допивает его одним глотком, но лучше ему от этого не становится; скорее уж наоборот. Пытаясь как-то унять подступающую тошноту, он встает с кресла якобы для того, чтобы поставить пустую чашку на мраморную крышку комода, которая, впрочем, уже и так загромождена мелкими вещицами: кошелечками из металлических колечек, цветочками из бисера, шляпными булавками, коробочками с перламутровым отливом, экзотическими раковинами… вперемешку с семейными фотографиями разных размеров, в наклонных латунных рамах с ажурными краями. В центре стоит самая большая фотография, сделанная на память во время отдыха на море, на которой слева на заднем плане видны гладкие скалы на фоне поблескивающей водной ряби, а на переднем плане – четыре человека, стоящие рядком на песке и глядящие в объектив камеры. Такой снимок вполне могли сделать и на маленьком бретонском пляже в Леоне.
В центре фотографии двое, оба с нордическими золотистыми волосами: высокий и стройный мужчина лет пятидесяти, с красивым, суровым лицом, в безукоризненно белых штанах и подобранной в тон белой рубахе с туго застегнутыми на пуговицы манжетами и воротником, а справа от него – совсем маленькая девочка двух, от силы, двух с половиной лет, хорошенькая и смеющаяся, совершенно голенькая.
Двое других, справа и слева от них, замыкающие ряд с двух сторон, напротив, жгучие брюнеты: весьма привлекательная молодая женщина (лет двадцати), которая держит за руку девочку, а с другой стороны – мужчина лет тридцати-тридцати пяти. Оба в пляжных костюмах, черных (или достаточно темных, чтобы казаться такими на черно-белой фотографии), она в трико, прикрывающем весь торс, он в трусах, – оба еще мокрые, видимо, после недавнего купания. Судя по их возрасту, эти молодые люди с очень темными волосами должны быть родителями девочки с кудрями цвета спелой пшеницы, которая, выходит, унаследовала по закону Менделя светлую пигментацию от деда.
Сам дед тем временем глядит в небо, за край отливающего глянцем прямоугольника, на стаю морских птиц – крикливых чаек, черноголовых крачек, буревестников, которые возвращаются в открытое море, – или аэропланов, пролетающих за кадром. Молодой мужчина смотрит на девчушку, которая, вытянув свободную руку, потрясает перед фотографом одним из тех маленьких крабов, именуемых «зелеными» или «бешеными», какие часто встречаются на пляжах, держа его двумя пальцами за заднюю лапку и восхищенно глядя на свою добычу. Одна лишь молодая мать, как пенорожденная Анадиомена, смотрит в камеру и позирует с обворожительной улыбкой. Но в глаза бросаются прежде всего разжатые клешни и восемь тоненьких лапок маленького рачка, хорошо различимые в самом центре снимка, вытянутые веером, прямые, расположенные совершенно симметрично, на равном удалении друг от друга.
Чтобы получше разглядеть актеров, разыгрывающих эту сложную сценку, Валь взял раму двумя руками и поднес фотографию к глазам, словно пытаясь влезть внутрь. Кажется, он вот-вот запрыгнет туда, но в последний момент его останавливает волнующий голос хозяйки дома, которая шепчет ему на ухо: «Это Жижи, ей тут два года, в песчаной бухте на северо-западном побережье Рюгена летом тридцать седьмого, тогда было на редкость жарко».
– А кто эта ослепительная девушка, которая держит ее за руку, с плеч и рук которой еще струятся жемчужные капли океана?
– Это не океан, а всего лишь Балтийское море. И, конечно, это я! (На комплимент она отвечает коротким гортанным смешком, который угасает, тихо рассыпаясь по мокрому песку.) Но к тому времени я уже давно была замужем.
– За этим молодым человеком, который тоже только что вышел из воды?
– Нет! Что вы! За Даниэлем, за этим шикарным господином, который намного старше и годится мне в отцы.
– Прошу прощения! (Разумеется, вежливый посетитель сразу же узнал пожилого полковника, изваяние которого он видел, разглядывая античную аллегорию на Жандарменмаркт.) Почему он смотрит в небо?
– Мы услышали адский рев, который издавало звено «штукас», совершающих учебный вылет.
– Это его обеспокоило?
– Не знаю. Но война уже приближалась.
– Выглядит он замечательно.
– Вы находите? Прекрасный экземпляр белокурого долихоцефала, годится для зоопарка.
– Кто сделал снимок?
– Я уже не помню… Наверное, профессиональный фотограф, если судить по необычному качеству снимка, ведь тут видны даже мельчайшие детали. Кажется, можно пересчитать песчинки… Этот черноволосый мужчина справа – сын Дана от первого брака… назовем это так для удобства. Думаю, на самом деле они не были женаты…
– Грехи молодости, надо полагать, если сыну действительно столько лет, на сколько он выглядит?
– Дану тогда было лет двадцать, а его возлюбленной ровно восемнадцать, столько же, сколько было мне, когда я его повстречала… Он всегда пользовался успехом у романтичных барышень. Просто диву даешься, как все повторяется: она тоже была француженка, и, судя по фотографиям, которые я видела, была похожа на меня как близнец, хотя она старше меня на тридцать лет… а то и больше. Можно сказать, что в сексуальном отношении у него были весьма устойчивые вкусы! Только эта первая связь была еще короче нашей. «Это была лишь репетиция, – уверял он меня, – перед генеральной репетицией». Со временем я все больше убеждалась, что в действительности сама была всего лишь дублершей… или, в лучшем случае, исполнительницей главной роли в короткой репризе по мотивам очень старой пьесы… Но что с вами, мой дорогой? У вас теперь совсем усталый вид. Вы почти не держитесь на ногах… Присядьте…
На этот раз Валлону, и впрямь, дурно, словно он принял наркотик, чей горький привкус он с тревогой ощущает во рту, когда хозяйка дома, резко прерывая нарочито многословный поток своих объяснений и рассуждений, неожиданно впивается зелеными глазами в плененного гостя, который пошатываясь поворачивается лицом к гостиной, пытаясь отыскать спасительное кресло… (8) Увы, все кресла были заняты, но расселись в них вовсе не манекены высотой в человеческий рост, как ему показалось вначале, а живые отроковицы в фривольном нижнем белье, которые шаловливо надувают губки в притворной обиде и заговорщицки ему подмигивают… В смятении он выронил из рук золотистую раму, и стекло, прикрывающее фотографию, разбилось об пол с несоразмерно громким кимвальным звоном… Возомнив, что он в опасности, Валь отступил на шаг назад и нашарил за спиной на мраморной крышке комода какой-то маленький тяжелый предмет, круглый и гладкий, как отшлифованный булыжник, который показался ему достаточно увесистым и пригодным для защиты в случае нападения… Прямо перед ним, в первом ряду, сидела не кто иная, как Жижи, улыбаясь ему вызывающе и насмешливо. Ее подружки, которые были здесь повсюду, стали, как заведенные, принимать сладострастные позы, чтобы угодить французу. Сидя, стоя или полулежа, некоторые из них, по всей видимости, изображали живые репродукции более или менее известных произведений искусства: «Разбитого кувшина» Греза (в более открытых нарядах), «Приманки» Эдуарда Маннере, «Пленницы в кандалах» Фернана Кормона; Алису Лиделл в виде маленькой попрошайки, в блузке, превращенной в двусмысленные лохмотья, с фотографии пастора Доджсона, святую Агату в изящном мученическом венце, с обнаженной грудью, которую уже украсила с большим вкусом нанесенная рана… Валь раскрыл рот, намереваясь что-то сказать, – он сам не знал, что именно, – что-то такое, что помогло бы ему вызволить себя из этого смехотворного положения, или просто хотел завопить, как при кошмаре, но не смог выдавить из себя ни звука. Тут он заметил, что сжимает в правой руке огромный стеклянный глаз, окрашенный в белый, голубой и черный цвет, который, должно быть, принадлежал какому-то исполинскому манекену, – поднес его к лицу и стал рассматривать с гадливым ужасом… Девушки все разом разразились смехом, каждая в своем тембре и регистре, – тут было и крещендо, и фальцет, и совсем низкие раскаты, – устроив жуткий концерт… (9) В последний момент он лишь успел почувствовать, что его куда-то тащат, вялого, обессиленного, как тряпичную марионетку, между тем как весь дом наполняется страшным гвалтом беспорядочного переезда или погрома, учиненного, судя по всему, крикливыми мятежниками…
Примечание 8: Пользуясь тем, что нашего взволнованного агента с головой накрывает волна прошедшего времени, совершенного и несовершенного вида, мы можем внести некоторые уточнения и поправки в вышеизложенный продолжительный диалог. Если память меня не подводит, снимок семейства на отдыхе был сделан не на острове Рюген, а в ближайших окрестностях Грааль-Мюрица, на балтийском курорте, неподалеку от Ростока, на котором летом 1923 года (то есть за четырнадцать лет до этого) побывал Франц Кафка, после чего провел последнюю зиму своей жизни в Берлине, впрочем, не в Mitte,[16] как некогда утверждал наш рассказчик, а на окраине квартала Штеглиц, ныне замыкающего, вместе с Темпельгофом, американский сектор с юга.