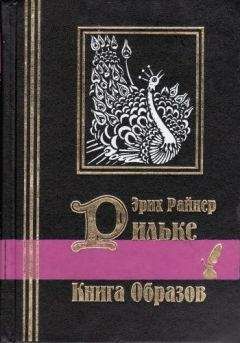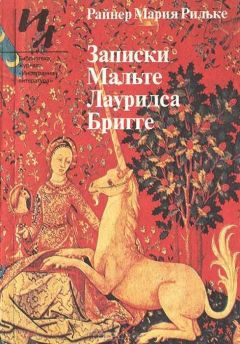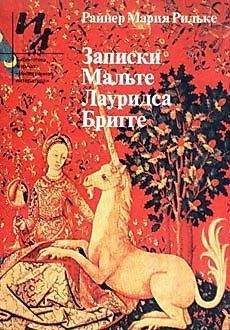Какой смысл был еще куда-то идти? Я был весь пустой. Как пустой лист бумаги, меня понесло вдоль домов, по бульварам, обратно. * Я пытаюсь тебе писать, хоть ничего уж не скажешь после вынужденного прощанья. И все-таки я пытаюсь, я должен, наверное, писать тебе, ведь я видел в Пантеоне святую, одинокую святую, и крышу, и дверь, и лампаду, укромный круг света, а вдалеке спящий город, и реку, и лунный простор. Святая стережет спящий город **. Я расплакался. Я расплакался оттого, что все так вдруг и неожиданно на меня навалилось. Я стоял и плакал, я ничего не мог с собою поделать.
* Набросок письма (примечание Рильке.).
** Цикл росписей в Пантеоне на тему жития св. Женевьевы, которая, по преданию, спасла Париж от нашествия гуннов; выполнен французским художником Пюви де Шаванном (1824-1898).
Я в Париже, и кто это узнает - все радуются, многие мне завидуют. Что ж, они правы. Париж - большой город, большой, полный странных соблазнов. Что до меня, должен признаться, в известной мере я им поддался. Да, иначе, верно, не скажешь. Я поддался соблазнам, и следствием явились некоторые перемены если не в моем характере, то по крайней мере в моем миросозерцании и уж во всяком случае в моей жизни. У меня выработалось совершенно иное понимание вещей, которое больше меня отъединяет от всех других, чем предыдущий опыт. Преображенный мир. Новая жизнь, полная новых значений. Сейчас мне как раз несколько даже трудно оттого, что все так ново. Я новичок в собственных обстоятельствах.
Как бы хоть одним глазком взглянуть на море?
Да, и подумать только, я-то воображал, что ты можешь приехать. И разузнать насчет доктора. Я так и не собрался навести справки. Впрочем, теперь мне уж и не до того.
Помнишь невероятное стихотворение Бодлера "Une Charogne" *? Я, кажется, только теперь его понял. Кроме последней строфы - все правда. Что еще должен он был написать, когда над ним разразилось такое? Его дело было увидеть в ужасном, с виду отталкивающем - сущее, единственно важное сущее. У нас нет ни выбора, ни права отбора. Думаешь, случайно написал Флобер своего Saint-Julien-L'Hospitalier **? Что, мне кажется, главное: вот решишься лечь к прокаженному, согреть его жаром влюбленного сердца - и это непременно обернется добром.
* "Падаль" (франц.) - одно из программных стихотворений Бодлера из сборника "Цветы зла". Написано в 1857 г.
** "Легенда о святом Юлиане Странноприимце" Флобера (1876 г.) написана по мотивам притчи о человеке, который лег в постель к прокаженному во искупление смертного греха.
Ты только не подумай, будто я здесь страдаю от разочарований, - о, напротив. Я иногда даже сам удивляюсь тому, с какой легкостью я готов поступиться всем чаемым ради действительного, как бы оно ни было горько.
Господи боже, если бы можно им поделиться! Но разве оно было бы тогда? Было бы? Нет, оно и существует лишь ценой одиночества.
Ужасное - в каждой частице воздуха. Его втягиваешь в легкие вместе с прозрачностью; но в тебе оно оседает, твердеет, острыми геометрическими краями врезается в органы; ведь все, что рождается пыточного и страшного на эшафотах, в застенках, сумасшедших домах, операционных, под сводами мостов поздней осени, - все не сдается и, ревнуя к сущему, упрямо настаивает на своей страшной яви. Ты хочешь его забыть; сон готовно стирает в мозгу его борозды, но сновиденья отменяют работу сна, вновь прочерчивая стертые знаки. И ты просыпаешься, задыхаясь, и проливаешь пламя свечи во тьму, и, как сладкую воду, глотаешь рассветные струи покоя. Но на каком же узком краешке держится этот покой! Одно неловкое движение - и снова взгляд идет сквозь знакомое, дружественное и за обманными утешными контурами ловит очертания ужаса. Бойся света, углубляющего полость пространства; не озирайся, чтобы часом не увидеть, как встает у тебя за спиною, порабощая тебя, тень. Нет, уж лучше, наверное, было оставаться во тьме, принимая неотграниченным, тяжким сердцем неразличимо общее бремя. Вот ты весь собрался; сам видишь свой предел; время от времени неуверенным жестом ощупываешь собственное лицо. А внутри у тебя уже не хватает места; и тебя чуть не тешит мысль, что в такой тесноте ничто большое не может обосноваться; что далее небывалое, входя вовнутрь, должно сократиться, сжаться, чтобы прийтись остальному по мерке. Но снаружи - снаружи оно непредвосхитимо; и когда снаружи оно растет, оно прибывает и в тебе, не в сосудах, которые ведь отчасти тебе подвластны, не во флегме твоих безразличных органов, но в капиллярах: засасываемое этими трубочками, оно проникает в самые дальние закоулки бесконечно разветвленного твоего существа, поднимается, поднимается, превышает тебя, и ты захлебываешься, задыхаешься. Ах! И куда же, куда же тогда? Сердце выталкивает тебя наружу, тебя гонит, ты уже почти вне себя и не можешь в себя воротиться. Как раздавленный жук, ты истекаешь собою, и тебя уже не спасет твоя легкая оболочка.
О, пустая ночь! И ослепшие окна во тьму! Припертые тщательно двери. Старый, перенятый, выверенный уклад - так до конца и не понятый. О, тишина на лестнице, тишина в комнатах рядом, притаившаяся под потолком тишина. И мать - единственная, эту тишину отстранявшая, когда-то в далеком детстве. Ты принимала ее на себя, ты говорила: "Не бойся, это я". У тебя доставало духу самой посреди ночи стать тишиною для того, кто боится, кто погибает от страха. Ты зажигаешь свечу, и уже ты становишься шорохом. Ты держишь перед собою свечу, говоришь: "Это я, не бойся". И - медленно - ты опускаешь свечу, и сомнений не остается: это ты, ты свет вокруг милых, ручных вещей, вставших рядом без задних мыслей и без утайки. И когда что-то прошуршит по стене, когда заскрипит половица, ты улыбаешься, прозрачная на свету, улыбаешься вспугнутому лицу, глядящему на тебя с вопросом, будто ты заодно с робким звуком, будто ты в сговоре с ним. Сравнится ли с твоей властью власть повелителей мира? Вот - цари земные лежат, застыв, и развлечь их не под силу никакому сказителю сказок. В сладких объятьях возлюбленных их настигает тоска, обессиливает, отнимает веселие сердца. А ты - ты оставляешь страшное позади, заслоняешь его собою; не как занавес, который ведь может оно приподнять и отдернуть. Нет, ты его обгоняешь, бросаясь на бедственный зов. Ты обгоняешь все, что еще может стрястись, верная только своей поспешности, вечному своему пути, лёту своей любви.
Mouleur *, мимо лавки которого я ежедневно прохожу, выставил две маски. Лицо юной утопленницы, отлитое в морге за то, что оно так прекрасно, и оно улыбается странной, обманной улыбкой, будто улыбкой знанья. И его лицо - знающее лицо. Крепкий узел туго стянутых чувств, сгущение музыки, упрямо порывающейся испариться. Лицо того, кому Господь преградил слух **, не оставив ему иных тонов, кроме его собственных. Чтобы не плутал среди торных и мутных шумов - он, вместилище их протяженной прозрачности; чтобы в полном беззвучии ему отворялся мир, немой, незаконченный, прося завершения в звуках.
* Литейщик (франц.).
** Имеется в виду Бетховен.
Завершитель мира! Как то, что беспечно, случайно падет на землю и воды дождем и, послушно законам природы, вновь поднимется, воспарит, образует свод неба, - так и в тебе восходят все наши осадки, чтобы мир окутала музыка.
Твоя музыка. Чтобы весь мир окутала; не только нас. Чтобы для тебя был сработан клавир в Фиваиде, и ангел подвел бы тебя к тоскующему инструменту сквозь горные цепи, где цари покоятся, и пустынники, и гетеры. И тотчас бы бросился ввысь и прочь, в страхе, что вот ты начнешь.
И ты бы взбурлил, бурный, неслыханный, возвращая вселенной то, что лишь ей под силу вместить. Суеверных бедуинов отшвырнуло бы вдаль, и купцы пали ниц, приникая к краям твоей взвихренной музыки. И одинокие скимны кружили бы в отдалении ночи, сами себя страшась, слушая ток своей крови.
Кто же ныне тебя защитит от похотливых ушей? Кто изгонит с концертов их - продажных с бесплодным слухом, блудящих не зачиная? Исторгается семя, а они его принимают, забавляясь, как шлюхи, оно падает пусто, как семя Онана.
И нет девственного, творец, нет ни одного с бессонным ухом для твоих звуков. А ведь он бы умер от счастья или, зачав бесконечное, изошел небывалостью новизны.
Нет, я все понимаю. Конечно, здесь требуется мужество. Но предположим на минуту, что у кого-то сыщется courage de luxe * выследить их и выяснить раз навсегда (как же потом забыть или с чем-нибудь спутать такое?), куда забиваются они после, и куда девают остаток долгого дня, и спят ли они ночами. Это особенно важно установить: спят ли они. Но одного мужества тут недостаточно. Ведь они не то что придут и уйдут, как все люди, которых выследить проще простого. Вот ведь они здесь, и вдруг снова их нет выставлены и убраны, как оловянные солдатики. Попадаются они в укромных, но не то чтобы тайных местах. Отступит кустарник, тропка легкой дугой обежит лужайку - и вот они, будто под колпаком из стекла, в прозрачном обрамленье простора. Ты можешь их принять за призадумавшихся прохожих, этих маленьких, неприметных, скромных во всех отношениях человечков. Но ты ошибешься. Видишь левую руку, что-то нашаривающую в кармане обшарпанного пальтеца? Видишь, как она ощупывает, извлекает, протягивает что-то мелкое нарочито неверным жестом? Не проходит минуты, и вот уж две-три птички - любопытные воробушки - тут как тут. И если человечку удается соответствовать их очень точному понятию о неподвижности, у воробушков нет причины не подлететь совсем близко. И наконец один вспархивает и нервно бьется на высоте руки, которая (видит Бог) держит кусочек черствого сладкого хлебца в непритязательных, подчеркнуто ненавязчивых пальцах. И чем больше топчется вокруг зевак - на почтительном расстоянии, разумеется, - тем меньше имеет он к ним касательства. Он стоит как светильник, разогретый догорающим фитилем, и не шелохнется. И чем он приваживает, чем привораживает - судить не глупым маленьким птичкам. Не будь народа кругом, и будь у него возможность постоять так подольше, я уверен, ангел бы слетел с высоты и, одолев отвращенье, съел бы черствый сладкий кусочек с чахлой руки. Но вечно тут люди. И уж они-то следят, чтоб слетались одни только птицы; они считают, что ему и так хорошо, что ничего другого он желать и не может. Чего еще может желать старое, дождями побитое чучело, косо, как ростра, торчащее из земли, по далеким садикам у нас дома? Не оттого ли у него эта поза, что когда-то оно выстояло среди бурь? Не оттого ли и вылиняло оно, что когда-то было пестро и ярко? Расспроси-ка его, не хочешь?