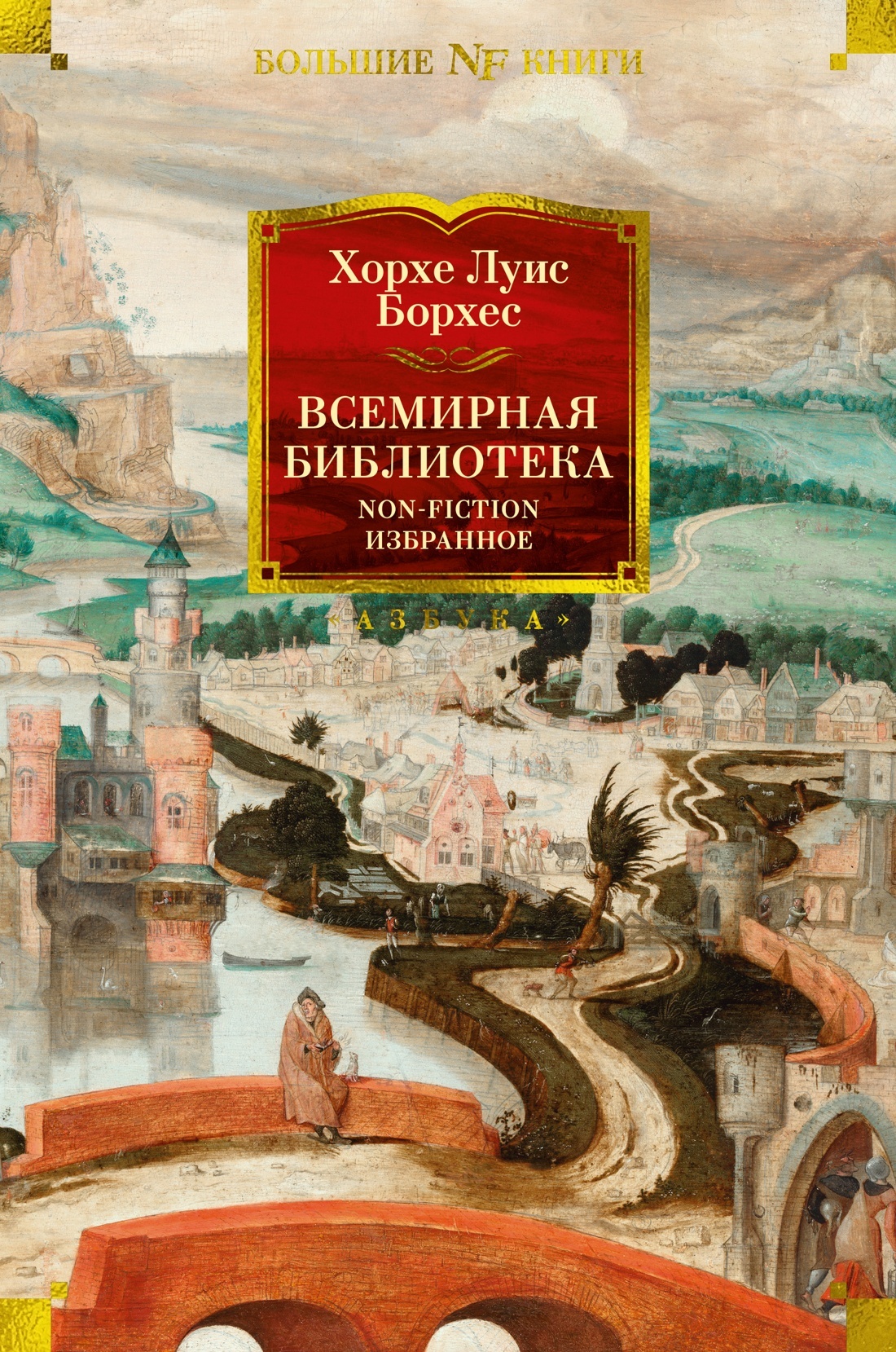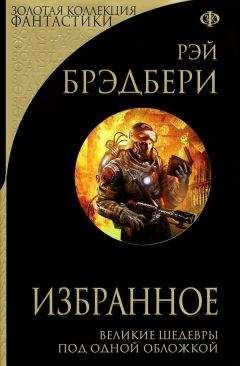и одним из ее агентов был Марло. Служба преследовала католиков, но вместе с тем преследовала и пуритан; ее сотрудники арестовали драматурга Кида, Томаса Кида, и нашли у него некие бумаги. Среди этих бумаг оказалась рукопись с двумя десятками еретических тезисов, в том числе – совершенно возмутительных: достаточно, к примеру, сказать, что один из тезисов зачислял Христа в ряды гомосексуалистов, выступал в защиту гомосексуализма и отрицал, что Христос может быть человеком и богом одновременно. Кроме того, тут была хвала табаку, привезенному Рэли из Америки. А Марло был из компании Рэли, этого пирата, этого историка, которого потом казнили и в чьем доме праздновались сходки, носившие роковое имя «the school of night» [628]. К тому же герои Марло, герои, пользовавшиеся явной симпатией автора, который их, можно сказать, прославлял, – все до одного безбожники. Темберлайн (Тамерлан), сжигает у него Коран, а в финале, завоевав целый мир, намеревается вслед за легендарным Александром Македонским покорить небо, отдает артиллерии приказ стрелять в небеса и завесить небо черными флагами в знак гекатомбы, резни богов: «And how black banners from the sky» [629] и т. д.
Или возьмите его Фауста, доктора Фауста, олицетворяющего жажду Возрождения все познать, прочитать книгу природы, но не в поисках морального урока, как это было в Средние века, эпоху физиологов и бестиариев, а в поисках знаков, из которых состоит мир.
Или возьмите «Мальтийского еврея», прославление алчности. Эта рукопись тоже попала в руки полиции. Кида подвергли пыткам; пытки – вовсе не изобретение нашего времени; Кид признался и заявил – вещь понятная, поскольку на кону была его жизнь, – что эта рукопись не его, что она от начала до конца принадлежит Марло, с которым он делил кров, когда они вместе работали, кроя и правя пьесы для театра. Для подобных дел существовал особый суд, он назывался «The Star Chamber» [630]. Марло дали неделю, после чего он должен был предстать перед этим судом по обвинению в богохульстве и безбожии и защищаться. И вот за два дня до заседания Марло как будто бы убили в дептфордской таверне. Вроде бы четверо мужчин, все из тайной полиции, явились в эту таверну, перекусили, отдохнули после обеда, вышли слегка размяться в маленьком сыром саду, а потом сели играть то ли в шахматы, то ли в бэк-гэммон, и вышел спор, кто кому сколько должен. Марло выхватил кинжал (холодное оружие в ту пору носил при себе всякий), был – ударом в глаз – заколот собственным кинжалом и скончался на месте. Но если следовать тезису Кэлвина Хоффмана, убили тогда не Марло, а другого, одного из трех его спутников; поскольку же в ту пору не было способов идентифицировать личность, про отпечатки пальцев еще не знали, то выдать одного человека за другого не составило труда, и Марло якобы объявил друзьям, что намерен бежать в Шотландию. Шотландия была тогда независимым королевством, и вот, по словам Хоффмана, убитого выдали за Марло, а он сам бежал в Шотландию и стал посылать оттуда своему другу и антрепренеру Уильяму Шекспиру сочинения, которые теперь приписывают последнему. Так он послал ему из Шотландии рукописи «Макбета», «Гамлета», «Отелло», «Антония и Клеопатры» и др. Потом он умер, по Хоффману, – годами четырьмя-пятью опередив Шекспира. Тогда тот продал свой театр и вернулся в родной Стратфорд, где полностью отказался от литературных трудов и посвятил себя роли одного из наиболее состоятельных горожан, предаваясь скромным радостям тяжб с соседями вплоть до смерти, случившейся в 1616 году вслед за пирушкой с друзьями-актерами, которые приехали из Лондона его навестить.
Этот тезис я бы парировал следующим доводом: хоть Марло и большой поэт, и у него встречаются строки, достойные Шекспира, и многие строки Марло разбросаны, как бы запрятаны по шекспировским пьесам, – между ними двумя есть тем не менее гигантская разница. Славя Шекспира, Кольридж воспользовался словарем Спинозы. Он сказав, что Шекспир – это, выражаясь словами Спинозы, natura naturans, творящая природа, сила, которая создает все существующие формы, сила, как бы замирающая в камнях, дремлющая в растениях, спящая в животных, так что они сознают только нынешний миг, и которая приходит к сознанию, к определенному сознанию, в нас, людях, становясь тогда natura naturata, сотворенной природой.
Хэзлитт тоже писал, что Шекспир вмещает в себя всех живущих, иными словами, что Шекспир способен чудесно умножаться и что думать о Шекспире – значит думать о множестве людей сразу. Напротив, в пьесах Марло всегда лишь один главный герой: завоеватель Тамерлан, скупердяй Варрава, ученый Фауст. Остальные – всего лишь статисты, их почти нет. У Шекспира живут все персонажи, включая эпизодических. Лавочник, продающий Ромео яд и роняющий: «Не я – моя нужда дает согласье» [631], очерчен одной этой фразой, – такое Марло не под силу.
В письме Фрэнку Хэррису Бернард Шоу писал: «Так же, как Шекспир, я понимаю всё и всех, и так же, как Шекспир, я никто и ничто» («Like Shakespeare I understand everything and everybody, and like Shakespeare I am nobody and nothing»). Одной многоликости шекспировского сознания достаточно, чтобы не путать его с Марло.
И вот мы подходим к настоящей загадке Шекспира. Она в том, что для нас Шекспир – один из самых замечательных людей на свете; между тем для его современников дело обстояло совсем иначе. То же самое можно сказать о Сервантесе. Лопе де Вега как-то написал: «Сервантесом способен восхищаться только неуч». Грасиан в своем «Остроумии» не находит в «Дон Кихоте» ни одного примера, достойного цитирования, а Кеведо в романсе между делом проходится на счет донкихотовой худобы – и все. Иными словами, современники почти не замечали Сервантеса; даже о его участии в битве при Лепанто забыли настолько, что он вынужден был напомнить, где потерял руку. Что до Шекспира, то, за исключением одной сомнительной похвалы, где упоминаются его «sugar sonets» (сладкие, или сладостные, сонеты), современники, кажется, не баловали его вниманием. Что ж, этому, я думаю, есть объяснение. Дело в том, что Шекспир – если не говорить о сонетах и нескольких вещах на случай вроде «Феникса и голубки» или «Страстного пилигрима» – почти целиком посвятил себя драматическому жанру. Каждая эпоха верит, что есть один главный литературный жанр. Скажем, у любого прозаика, не написавшего роман, спрашивают, скоро ли он его напишет. Меня, например, постоянно спрашивают. В шекспировские времена главенствующим жанром в литературе была эпическая поэма, большая эпическая поэма, и такое представление царило вплоть до XVIII века. Возьмите Вольтера, наименее склонного к эпосу, – он тоже написал