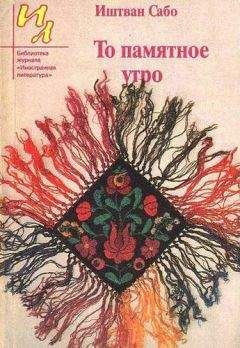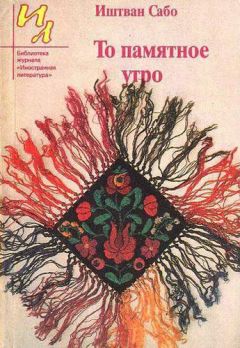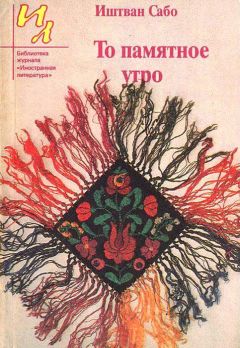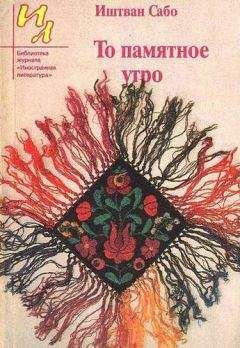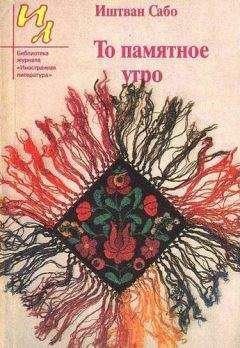- Сей момент, - бормочет дядюшка Михай, насилу поднявшись на ноги. Старческие суставы хрустнули. Дрожа всем телом, согбенный, беспомощный, стоит он перед невесткой. Затем направляется было к дому, но каждый шаг явно дается ему с трудом.
- Вишь, до чего никудышный я стал? - с несмелой улыбкой обращается он к невестке.
Эржи слов не находит от удивления. Сроду не слыхала она от свекра таких речей. С первого дня только и помнит что грубости, ругательства, проклятия, извечное ворчание, мрачные, ненавидящие взгляды, замкнутое, как у идола, лицо. Какая муха его укусила? Неужто болезнь так меняет человека? И улыбается как-то чудно. Да он и улыбаться-то сроду не улыбался. Никогда не звучал его голос с такой теплотою, никогда прежде не заводил он разговоров о своем самочувствии. Разговора у них вообще никогда не получалось... А сейчас и глаза вон блестят подбадривающе, и на лице не осталось и следа от прежнего сурового выражения.
Сердце Эржи бьется жаркими, беспокойными толчками. Что же приключилось со свекром? Отчего он стоит перед ней в такой странной позе, словно ждет чего?
Дядюшка Михай все продолжает улыбаться.
- Ну... как вы там поживаете? - дрогнувшим голосом спрашивает он.
И вопросов таких старик не задавал ей сроду.
- Спасибо, - с запинкой вымолвила она, - вроде ничего...
- Имре что поделывает?
- Сейчас жатва идет...
- На этой... общей земле?
- Да.
- Пшеницу убирают?
- Пшеницу.
Старик, неопределенно хмыкнув, обводит взглядом долину, затем опять обращается к невестке:
- Как, наладилось у них хозяйство?
- Наладилось... но пока еще нелегко приходится.
- Эка беда! Любое дело поначалу трудно... Пшеница хорошая уродилась?
- Не сказать чтобы очень хорошая. Засеяли поздновато.
- Да и зима суровая выдалась.
Эржи себя не помня стоит перед стариком...
А дядюшка Михай все не сводит глаз с невестки. До чего славное, приятное лицо у этой молодицы, глаза карие, живые и лоб высокий - знать, умница!.. Пряди волос мягко выбиваются из-под красной косынки.
- Ну а ты как?..
Эржи вспыхивает до корней волос и опускает глаза.
- Спасибо... Я уже на седьмом месяце...
Старик одобрительно кивает и делает невестке знак рукой:
- Неси корзинку в дом, я сейчас приду.
Он выжидает, пока Эржи не скрылась за дверью, а затем со всей поспешностью, на какую способен, направляется к грушевому деревцу.
Все три груши уродились на славу. Желтоватыми наливными бочками они ласково улыбаются сквозь темную зелень листвы. Старик берет ближнюю, и груша сама отделяется от ветки, давая понять, что она и впрямь созрела. Дядюшка Михай срывает и остальные, подносит их к лицу, и от дивного, сладостного аромата у него чуть кружится голова. Он бросает прощальный взгляд на малое обобранное деревце и идет к дому.
Эржи уже успела выставить обед на стол и теперь наводит порядок: застелила старикову постель, смахнула пыль с мебели и принялась полотенцем выгонять из комнаты мух.
Дядюшка Михай с грушами в руках неловко подходит к ней.
- Эржи!
- Ой, до чего хороши! - радостно воскликнула невестка. - С какого дерева, отец?
- С какого? - Старик довольно прищурился. - Тебе и невдомек... Я сам прививал шесть лет назад. Маленькое такое деревце, в углу виноградника. В этом году дало первые плоды.
Эржи не отрываясь смотрит на груши; видно, ей не терпится попробовать их на вкус... Старик неуклюже протягивает к ней ладонь.
- Отведай...
Эржи попятилась.
- Что вы, отец, как можно!.. Вы сажали, значит, ваш и урожай.
Дядюшка Михай изумленно уставился на невестку.
- С какой это стати - мой урожай? Ты что, обычая не знаешь?
- Какого обычая?
- С первого урожая поначалу беременной женщине отведать положено... Бери-ка себе две.
Эржи смеется счастливым, застенчивым смехом и берет с ладони свекра одну грушу.
- Но почему... мне положено?
- Неужто и в самом деле не знаешь?
- Не знаю, отец.
- Да уж откуда вам, молодым, наши давние обычаи знать!
- Какой же это обычай?
- Чтоб плодородным было дерево... Благословенным, как лоно той, кто впервые отведает его урожая...
Эржи, посерьезнев, трепетно, чуть ли не благоговейно надкусывает, блеснув глазами.
- Ой, до чего вкусно, отец!
Старик судорожно сглатывает, почувствовав, что сердце его вот-вот разорвется, до краев переполненное небывалой радостью.
- Ешь, коли вкусно... Пусть та груша всегда приносит обильный урожай. Вам его собирать...
Он устало присаживается к столу и, пока ест, прикидывает про себя, как после обеда он вместе с Эржи отправится в деревню. Подле молодых, глядишь, и не будет ему так зябко... а может, и по дому сумеет им чем помочь. А там как знать, вдруг и внука дождется... Главное, собраться, не откладывая, и переселиться к молодым, а не то останется он тут один, и окончательно застынет в ней жизнь - в самый-то разгар знойного лета!
Мое первое сражение
Перевод Т. Воронкиной
Забав и сладостей тебе казалось мало...
Ласло Надь. "Ко дню рождения"
Откуда мне, десятилетнему мальчонке, было знать, что я затеял игру с огнем?
В ту пору я прочел "Звезды Эгера" {"Звезды Эгера" - роман классика венгерской литературы Гезы Гардони (1863-1922), посвященный освободительной борьбе венгерского народа против турецких поработителей.}, и книга произвела на меня настолько сильное впечатление, до такой степени взбудоражила фантазию, что я и опомниться не успел, как сам сочинил историю о храбром венгерском богатыре по имени Гашпар. На пару со своим верным другом он расправляется с несколькими сотнями турок, после чего герои верхом на конях удаляются к себе в крепость. Наступает время вечерней трапезы, и тут друг Гашпара ведет себя очень странно: не в силах проглотить ни кусочка, он предпочитает удалиться на покой голодным. Я даже заставил друзей рассориться и на том закончил рассказ.
Дня три после этого я места себе не находил. Коротенькое сочинение, для которого из школьной тетради были незаконно присвоены несколько страничек, не давало мне покоя. Я сознавал, что содеял нечто не просто необычное, но запретное, нарушающее все правила, и все же мне было приятно. Радость и страх одновременно переполняли душу. Я и не подозревал, что сейчас впервые в жизни заглянул в пропасть и отныне мне уже никогда не избавиться от соблазна - вновь и вновь склоняться над бездонной глубиною.
Вдобавок ко всему оказалось, что я не способен сохранить свой труд в тайне. Как только первый страх миновал, мною тотчас же овладел другой бес: похвастаться перед другими. Меня так и подмывало показать кому-нибудь свое творение, поскольку я смутно чувствовал: если я написал его один, без посторонней помощи, то другого такого не может быть в целом свете. Сам не знаю, было ли это обычным ребяческим хвастовством. Скорее всего нет. Просто-напросто я подчинился извечному закону, желая пройти путь, какой проделывает каждый художник от сотворения своего детища и до вынесения его на всеобщий суд, - путь, отклонений от которого быть не может. Такое толкование выглядит смешным - кому придет в голову счесть писателем десятилетнего мальчишку? Любой более или менее смышленый или наделенный буйной фантазией ребенок в состоянии сфабриковать "сочинение", в особенности под влиянием прочитанного; примеров тому несть числа. Здесь нет и речи о каком бы то ни было чуде свыше - минутная прихоть, только и всего.
Да не укорят меня в зазнайстве: и я, десятилетний, отнюдь не мнил себя писателем. Я лишь пытаюсь развить мысль о том, что даже подобное "творение", возникшее как детская забава, стремится стать всеобщим достоянием, пробиваясь если не каким-либо иным способом, то с помощью честолюбия своего создателя: оно так и подстрекает автора - которому и всего-то от горшка два вершка - выступить перед публикой. Оно не желает - пребывать во мраке безвестности, храниться на правах личной собственности в сундуке себялюбивого скряги. Впрочем, положение его отнюдь не безнадежно: обладатель его сам ждет не дождется случая озарить и других сиянием своего сокровища. В этот миг ему уже не принадлежит то, что он считал своим самым дорогим сокровищем: ему достается лишь ответственность за свое творение, передоверенное другим. С этого момента творчество утрачивает игровой характер, приобретая серьезное, весомое значение.
Вы спросите, кому показал я свой опус? Для десятилетнего ребенка нет духовного авторитета превыше учительского; вот и я обратился к учителю. Весь день я дрожал от волнения, не решаясь встать из-за парты и отнести тетрадь к учительской кафедре. И вместе с тем мне хотелось вручить ее на глазах у всех, чтобы о моем сочинении узнал весь наш четвертый класс, а там, глядишь, весть распространится и шире... Сколько раз я решал про себя: вот сейчас встану! - и неизменно упускал удобный случай. Наконец на последнем уроке мне удалось побороть свою нерешительность, и я, как одурманенный, ничего вокруг не видя и не слыша, добрался до учительской кафедры. Не помню, какие слова я произнес при этом; в памяти осталось лишь лукавое удивление во взгляде учителя, когда он с каким-то шутливым замечанием взял протянутую ему тетрадь. В классе за моей спиной послышались возня и перешептывание. Я оглянулся, увидел ехидно ухмыляющиеся физиономии своих однокашников, и тут мной овладели дурные предчувствия. Однако я стоически перенес испытание и прямо там, у кафедры, выждал, пока господин Будаи прочтет мою писанину. Он пробегал строчки глазами и не переставая улыбался. Меня беспокоила эта его улыбка, поскольку я не мог решить, что она означает. Как заправский писатель, чутко, настороженно следил я за тем, какое впечатление производит рассказ. Мой страх перед публикой чуть поулегся, время от времени я даже адресовал классу высокомерные взгляды. Закончив чтение, учитель спросил: