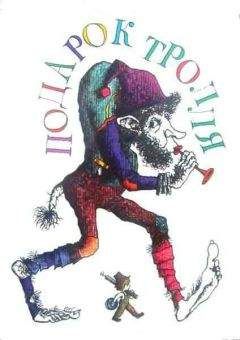Он ютился в крошечной комнатушке с окном во двор, и стул, на который я в изнеможении упал, был единственным, так что хозяину пришлось стоять. Опершись на колченогий комод, на котором стояла тарелка с остатками скудной трапезы, доктор - я оторвал его от ужина - принялся меня расспрашивать.
Его вопросы повергли меня в изумление. Они относились не к моей болезни - как следовало бы ожидать, - а совсем к другому: к моим связям и знакомствам, взглядам и увлечениям и т. д. Побеседовав со мной около четверти часа, он вдруг оборвал разговор, улыбнулся и открыл мне сам, чего он добивается, обследуя больного столь необычным способом.
Он сказал, что его интересует не состояние моего здоровья, а мой характер; ради того, чтобы получить разрешение на въезд, ему пришлось, как и мне, подписать обязательство не заниматься профессиональной деятельностью. Взявшись лечить меня, он рисковал подвергнуться высылке. Прежде чем приступить к осмотру, ему надо было удостовериться, что я человек порядочный и не разболтаю, что он оказал мне врачебную помощь.
Борясь то и дело с прерывавшим меня кашлем, я стал заверять его со всей серьезностью, что привык платить услугой за услугу и готов обещать, что, как только он меня вылечит, я тут же об этом забуду. Мой слова заметно успокоили его, и он велел мне прийти в клинику, где ему было разрешено работать неоплачиваемым ординатором.
Врач, заведовавший отделением, был человек разумный и в некоторых случаях предоставлял Н. как специалисту свободу действий. Но нам не повезло: на следующее утро он, как нарочно, ушел в отпуск. Н. вынужден был изложить дело его заместителю, с которым он не был знаком. Тот предложил Н. пригласить пациента в клинику.
Я пришел раньше назначенного времени, застал Н. в одной из маленьких ординаторских и успел поговорить с ним наедине.
"Мне не разрешают заниматься практикой, - сказал Н., - потому что здешние врачи вынуждены защищаться от конкуренции. При этом они опираются на один давнишний закон против знахарства. Пациенты, конечно, заинтересованы в том, чтобы их не лечили люди, ничего в своем деле не смыслящие".
Когда мы вошли в операционный зал, заместитель начальника отделения был уже там. Нас удивило, что он зачем-то моет руки.
Это был веселый и шумный человек. "Ну что ж, - сказал он, обрабатывая ногти щеточкой и повернув ко мне свою маленькую лысую головку, - давайте испробуем новый метод вашего друга. Не будет пользы, так и вреда не будет. Я всегда считал, что все новшества надо тщательно проверять на практике".
"Я думал, что эту маленькую операцию сделаю за вас я, - сказал Н., стараясь не выдавать своего испуга. - Я ведь уже сотни таких операций сделал".
"Зачем же? - воскликнул заместитель. - Мы справимся и сами. Я вас прекрасно понял. Вы можете показать мне нужную точку, раз уж вы так волнуетесь. А вы тоже не бойтесь, - обратился он ко мне. - Счета я вам не пришлю. Я ведь знаю, вы - эмигрант!"
Н. делал ему намеки, под конец довольно настойчивые, я поглядывал на него с опаской, но все это не смогло помешать ему выполнить свой долг.
Сделал он это не блестяще. Он не сумел найти нужную точку у меня в носу, и приступы кашля не убавились. К тому же неудачная операция вызвала воспаление слизистой оболочки, и на первых порах Н. не в силах был мне помочь, даже после возвращения из отпуска начальника отделения. Лишь неделю спустя он смог начать лечение.
После этого мое состояние стало улучшаться как по волшебству. Н. лечил меня через день, через два, и кашель больше не появлялся. Я сидел теперь у себя в комнате на окне и играл на губной гармонике, чего я долгое время не мог делать. Еще две недели назад одна мысль об этом вызвала бы у меня сильнейший приступ кашля. Но вот однажды, придя в клинику, я не застал там Н. "Он здесь больше не работает", - холодно сказала сестра и пошла в кабинет заведующего.
Я решил навестить Н. Было около полудня, а он все еще лежал в постели. Это немало удивило меня: он любил порядок и к тому же отличался живостью. Уж не заболел ли он?
"Я на этом уголь экономлю, - извинился он, - да и к чему вставать, если все равно делать нечего". Оказалось, что какой-то зубной врач увидел его в клинике и донес властям, что он занимается запрещенной ему врачебной практикой. Его пришлось уволить из клиники. Теперь ему не разрешалось даже приходить туда.
"Больше я ничего не смогу сделать, - нерешительно заговорил он вполголоса. - Вполне возможно, что за мной теперь следят, а в случае чего могут и выслать". Он сказал это, стараясь не глядеть мне в глаза, и я еще немного побыл у него, сидя на единственном стуле и поддерживая вялый, не клеившийся разговор.
Два дня спустя у меня снова был приступ. Дело было ночью, и я боялся, что мой надрывный кашель перебудит людей, у которых я снимал комнату. Они брали с меня меньшую плату, чем тогда было принято.
На другой день - к тому времени я успел выдержать еще два приступа и присел к окну отдышаться - в дверь постучали, и в комнату вошел Н.
"Можете ничего не говорить, - быстро сказал он, - я сам все вижу, просто стыд и срам. Я принес с собой что-то вроде инструмента; наркоза я дать не могу, так что придется вам стиснуть зубы, и я попробую".
Он достал из кармана набитый ватой портсигар, и извлек оттуда самодельный пинцет. Я сидел на своей кровати и сам светил ему настольной лампой, пока он прижигал мне нерв.
Но когда он уходил, женщина, сдававшая мне комнату, остановила его на лестнице и спросила, не может ли он посмотреть горло у ее маленькой дочки. Значит, мои хозяева уже знали, что он врач. Продолжать лечение у меня в комнате мы не могли.
Это было очень скверно, так как ни у меня, ни у Н. не было на примете безопасного места. В течение следующих двух суток - к счастью, в эти дни я чувствовал себя лучше - мы несколько раз совещались, и к вечеру второго дня Н. сообщил мне, что место он нашел. Он говорил со мной, как всегда, энергичным тоном врача с именем (а имя у него и в самом деле было громкое) и ни одним словом не упоминая об опасности, которой он подвергался, взявшись лечить меня.
Безопасным местом оказалась уборная одного большого отеля неподалеку от вокзала. По пути туда я глянул сбоку на Н. и вдруг осознал, как странно все то, что сейчас происходит. Он шел по улице, довольно рослый и статный мужчина в дорогой шубе, оставшейся у него, должно быть, от лучших времен, и, глядя на него, никто не сказал бы, что он направляется не к себе в клинику или на одну из своих знаменитых лекций, а в уборную отеля, которую он присмотрел себе под операционный зал.
В этот час в уборной действительно не было ни души, обслуживающего персонала там тоже не держали, к тому же она находилась в подвале, и если ктонибудь вздумал бы сюда прийти, то мы услышали бы его шаги еще издалека. Вот только освещение было очень плохое.
Н. встал лицом к двери, чтобы все время наблюдать за ней. Искусство этого кудесника победило царивший в помещении полумрак, он сумел подчинить себе и убогий, с грехом пополам приспособленный инструмент, и, несмотря на нестерпимую боль, от которой у меня слезы брызнули из глаз, я думал тогда о другом: о триумфальном шествии науки, которым ознаменован наш век.
Вдруг за спиной у Н. раздался голос: "Что вы здесь делаете?" Вопрос был задан на местном языке.
Белая дверца одной из кабинок отворилась, и оттуда вышел толстый, ничем не примечательный человек в серой меховой шапке. Продолжая приводить себя в порядок, он поглядывал на нас недоверчиво моргавшими глазками. Я почувствовал, что Н. буквально окаменел, - однако рука, его не дрогнула ни на мгновение. Легким и уверенным движением он вытащил пинцет из моего многострадального носа. Лишь после этого он повернулся к незнакомцу.
Тот не трогался с места и не повторил свой вопрос. Н. тоже ничего не сказал, только пробормотал что-то невнятное и поспешно сунул в карман пиджака свой пинцет, словно это был кинжал, которым он хотел меня убить. Очевидно, самым криминальным в этой подпольной операции ученый считал то, что он выполнил ее столь жалким, достойным коновала орудием. Неловким движением - теперь руки у него все-таки задрожали - он поднял с кафельного пола свою шубу, взял ее в охапку и, побледнев как полотно, подтолкнул меня к двери.
Я вышел, не оглядываясь. Из того угла, где стоял толстяк, не донеслось ни звука. Наверно, он и сам растерялся, увидев наше поспешное отступление и сделав вывод, что он воспрепятствовал каким-то противозаконным действиям; в оцепенении глядел нам вслед, может быть, даже почувствовав облегчение оттого, что мы не напали на него. Ведь нас все-таки было двое.
Мы беспрепятственно прошли через вестибюль отеля и очутились на улице; затем, упрятав лицо в воротник до самого носа, дошли до ближайшего перекрестка, где и разошлись без дальних слов в разные стороны.
Н. отошел уже шагов на пять, как вдруг на меня обрушился неистовой силы приступ кашля, отшвырнувший меня к стене дома. Я успел заметить, что Н. обернулся ко мне на ходу и лицо его искривилось, как от боли. Вероятно, в тот самый вечер я и схватил простуду, которая на три недели приковала меня к постели. Эта болезнь едва не стоила мне жизни, но после нее моя астма исчезла".