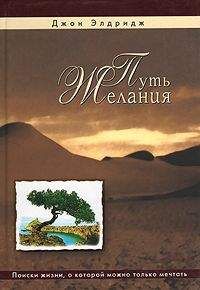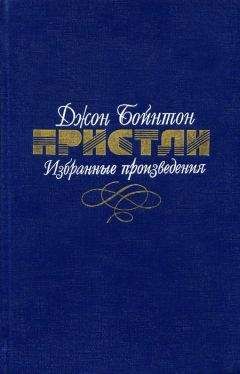- Дорогая моя, это твой двоюродный брат, Джон Сендел.
Элинор очнулась и ответила на приветствие юноши, столь неожиданно ей представленного, с волнением, которое заставило ее позабыть о той светской учтивости, какую ей следовало бы выказать, но от этого волнения и от робости своей она сделалась еще трогательней и прелестней.
Обычаи того времени допускали и даже узаконили объятия и поцелуи при встрече, что потом вышло из употребления; и когда Элинор ощутила прикосновение губ, таких же алых, как и у нее, она вздрогнула, подумав о том, что с губ этих не раз слетали приказы, обращенные к тем, кто проливал человеческую кровь, и что рука, которая с такой нежностью обвилась теперь вокруг ее стана, неотвратимо направляла смертоносное оружие со страшной целью - поразить тех, у кого в сердце трепетала человеческая любовь. Своего двоюродного брата она встречала любовью, но объятия героя приводили ее в содрогание.
Джон Сендел сел рядом с ней, и спустя несколько минут его мелодичный голос, мягкость и непринужденность манер, глаза, которые улыбались, в то время как губы были недвижны, и губы, чья улыбка могла сказать больше, оставаясь безмолвной, чем взгляд иных, красноречивых в своем сиянии глаз, постепенно вливали в ее душу покой; она пыталась что-то сказать, но вместо этого умолкала, чтобы слушать, пыталась взглянуть на него, но, подобно поклоняющимся солнцу язычникам, чувствовала, что лучи света слепят ее, и _начинала смотреть в сторону, чтобы что-то видеть_. Обращенные на нее темно-синие глаза юноши струили спокойный ровный и чарующий свет; так сиянье луны озаряет погруженную в дремоту долину. И в тонах голоса, от которого она ждала раскатов грома, было столько совсем еще юной и пленительной нежности, которая совершенно обезоруживала ее, что слушать эту речь становилось для нее истинным наслаждением. Элинор сидела и, упоенная им, пила каждое его слово, каждое движение, каждый взгляд, каждое прикосновение, ибо юноша с вполне простительной в его положении непринужденностью взял ее руку и уже не отпускал ее все время, пока говорил. А говорил он долго и отнюдь не о войне и не о пролитии крови, не о боях, в которых он так отличился, и не о событиях, о которых ему достаточно было упомянуть вскользь, чтобы в ней пробудились и интерес к ним и ощущение их значительности, а, напротив, о возвращении своем домой, о том, как ему радостно было свидеться с матерью, о надеждах его, что обитатели замка окажутся к нему благосклонными. С горячим участием расспрашивал он ее о Маргарет и с глубоким почтением - о миссис Анне, и по тому, как он весь оживлялся при упоминании их имен, можно было видеть, что на пути домой сердце его опередило шаги и что вместе с тем сердце это чувствует себя везде как дома и умеет передать это чувство другим. Элинор могла слушать его без конца. Имена родных, которых она любила и глубоко чтила, звучали в ушах ее как музыка; однако наступление темноты напомнило ей, что пора возвращаться в замок, где строго соблюдался заведенный порядок, и, когда Джон Сендел предложил проводить ее домой, У нее уже не было повода медлить с уходом.
В комнате, где они сидели, было уже довольно темно, но когда они шли потом в замок, все вокруг было еще залито багряными лучами заката.
Идя по тропинке парка, Элинор была настолько поглощена потоком охвативших ее чувств, что в первый раз за все время не ощутила красоты окрестных лесов, мрачных и в то же время излучающих свет, смягченных красками осени и золотящихся в сиянии осеннего вечера, пока наконец голос ее спутника, восхищенного открывшейся перед ними картиной, не вывел ее из этого забытья. Чувствительность к природе, та свежесть и непосредственность, с которой ее ощущал тот, чье сердце она считала очерствевшим от тяжких трудов и всех пережитых ужасов, кого она представляла себе более _склонным переходить через Альпы, чем нежиться в Кампанье_ {31}, растрогала ее до глубины души. Она пыталась что-то ответить и не могла; она вспомнила, как, будучи сама очень чуткой и восприимчивой к природе, она сразу же откликалась на все восторги других, разделяла их чувства, а тут она сама поражалась своему молчанию, ибо не понимала его причины.
Все, что они увидели, подойдя ближе к замку, поразило их такой неслыханной красотой, какая вряд ли могла пригрезиться даже художнику, чье воображение прельщалось закатами в южных странах. Огромное здание тонуло в тени; все его причудливые и резко очерченные контуры - главной башни со шпилем, зубчатых стен и сторожевых башен - слились в одно густое и темное пятно. Далекие остроконечные холмы все еще ясно выделялись на фоне темно-синего неба, а клочья пурпура так льнули к их вершинам, что можно было подумать, что им хочется побыть там еще дольше и что последние лучи, уходя, оставили после себя эти знаки в залог того, что тени уйдут и снова настанет лучезарное утро. Леса вокруг были такими же темными и, казалось, такими же плотными, как и стены замка. По временам над густой лохматой листвою неуверенно проглядывало тусклое золото. И наконец в прогалину между темневшими могучими стволами вековых деревьев хлынул последний его поток; догорающие лучи эти, коснувшись каких-то травинок, на миг превратили их в россыпи изумрудов и, едва успев полюбоваться своим творением, сокрылись во тьме. Все это было так неожиданно, так сказочно и так скоротечно, что крик восторга замер на устах Элинор, когда она протянула руку в направлении дали, так ослепительно вспыхнувшей и так внезапно погасшей. Она взглянула на своего спутника, и во взгляде ее были и просветленность и глубокое понимание; так слова наши кажутся мелкой монетой рядом с тою, что из золота самой высокой пробы чеканят взгляды: в них все от сердца. Спутник ее в эту минуту тоже к ней обернулся. Он ничего не восклицал, ни на что не указывал рукою; он только улыбался, и в улыбке этой было что-то неземное; как будто она отражала этот избыток света, это прощание уходившего дня, и сама с ним прощалась, как с другом. Улыбались не одни только губы, но и глаза, и щеки, каждая черточка лица, казалось, вносила свою долю в этот разлитый во всем его существе лучезарный свет, и все вместе они создавали гармонию, которой упивается взор и которая подобна другой, что слагается из сочетания искусно подобранных замечательных голосов и радует слух. И в сердце Элинор до последнего часа ее земного бытия запечатлелись эта улыбка и все, что их окружало в тот миг, когда она засияла у него на лице. Это была весть о том, что душа его, подобно древней статуе, на каждый падающий на нее луч света отвечает сладостным голосом {32} и сливает воедино величие и торжество природы с блаженным уделом проникновенного и нежного сердца. До конца своего пути они уже ни о чем больше не говорили, но молчание их было красноречивее всех слов, которые они могли бы сказать друг другу...
* * * * * *
Когда они пришли в замок, был уже поздний вечер. Миссис Анна приняла своего прославленного внука с достоинством, радушием и любовью, к которой примешивалось чувство гордости. Маргарет встретила его не столько как брата, сколько как героя, а Джон, после того как он был представлен всем в доме, снова обратил свой взгляд на улыбавшуюся ему Элинор. Они пришли как раз тогда, когда капеллан собирался приступить к чтению вечерних молитв, строгий распорядок этот неукоснительно соблюдался в замке, и даже прибытие гостя не должно было его нарушать. Элинор с чрезвычайным волнением ожидала этой минуты: она была очень благочестива, и хотя юный герой был полон самых нежных чувств и всей той отзывчивости и чистоты, какие способны возвысить и украсить наш жалкий удел, она все же боялась, что религии, которой сродни глубокое раздумье и строгие привычки, пришлось бы долго скитаться по свету, прежде чем прибежищем ее могло сделаться сердце моряка. Последние сомнения ее рассеялись, когда она увидела, с каким горячим и вместе с тем тихим рвением Джон стал молиться вместе со всеми. В благочестии мужчины есть что-то особенно возвышающее. Видеть, как этот высокий человек, не привыкший кланяться людям, опускается до земли, чтобы поклониться богу, понимать, что эти колени, суставы которых тверды, как адамант, колени, которые никакая сила, никакие угрозы не могли заставить согнуться, теперь перед лицом Всевышнего становятся гибкими и покорными, как у ребенка; видеть, как поднимаются ввысь сложенные руки, слышать, как возле коленопреклоненного воина звенит его волочащийся по полу кортик, - все это сразу трогает и чувства наши и сердце, и в душу западает страшный, впечатляющий образ физической силы, простертой перед могуществом Провидения.
Элинор не сводила с него глаз, вплоть до того, что даже забывала о том, что должна молиться. И когда его белые руки, созданные, казалось, совсем не для того, чтобы браться за оружие и нести людям смерть, были благоговейно сложены в молитве, когда, стоя на коленях, он вдруг поднял левую и легким движением откинул упрямые пряди, спадавшие ему на лицо, ей показалось, что она видит перед собой олицетворение ангельской силы и ангельской чистоты.