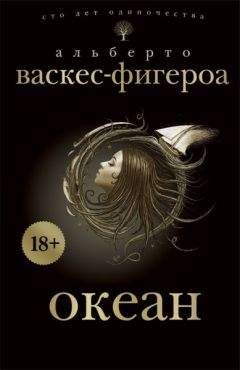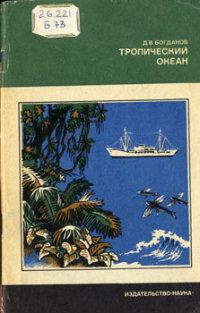И я думала: интересно, что можно такими руками делать? Ведь он работает кем-то. Наверное, на каком-нибудь заводе, ворочает там что-то тяжёлое своими ручищами…
И каково же было моё изумление… изумление и восторг, когда…
…я пришла в свой любимый Зал Чайковского, на симфонический концерт – и…
И увидела там ЭТИ РУКИ!
Эти огромные руки нежно и мощно водили смычком по струнам контрабаса…
Это оказались руки музыканта!…
* * *
Девочка из Чехословакии, Барбара, перестала отвечать на мои письма.
Мы переписывались с девятого класса, обменивались коротенькой информацией где-то раз в месяц. Она изучала в школе русский язык и ей нужна была тренировка.
Мне стыдно было писать ей теперь – после того, как наши танки вошли в её страну. Если б я вышла на Красную площадь, как вышли смельчаки, у меня было бы моральное право писать ей. Но я не вышла. Я даже не знала, что кто-то вышел на площадь в знак протеста. А такой поступок был бы как раз по мне – с моим критическим отношением к жизни. Да и жизнью я не дорожила, ничего в ней такого особенного не было, чтобы ею дорожить.
Но, тем не менее, судьба сложилась так, что я не вышла. Видно, у Господа Бога были на меня какие-то другие планы. Видимо, сидение бабушки за колючей проволокой, сидение деда и отца – было более чем достаточно на нашу семью. Если бы и я там оказалась – был бы уже перебор… Это я сейчас так думаю. А тогда я просто не знала, не ведала, я приехала в Москву и никого, кроме Варвары Ильиничны из Безбожного переулка, никого в этом городе не знала. А самой выйти куда-то и протестовать – такое в голову юной провинциалке, только вчера приехавшей в столицу, не пришло. При всём моём «критиканстве» (как говорили домашние), экстремизме и склонности к суицидальным размышлениям. Окажись я в своё время в кругу таких же критически настроенных людей, мой жизненный путь был бы предопределён. Но – Бог уберёг. И, вместо этого, вложил в мои руки «Золотую розу».
Эта книга стала моим евангелием. Кроме пути критики и разрушения того, что ненавистно, есть другой путь – творчества. Сотворения иной реальности, которая будет сильнее и долговечнее преходящей, зыбкой, неправедной.
Но отчаянные споры с Фёдором были. И с этим парнем-автокарщиком тоже. Оказалось, он – из семьи потомственных военных. Оказалось, он мечтает об армии, о военном училище, о карьере военного. Он был убеждён, что русский офицер – истинный хранитель и носитель русской культуры, он был убеждён, что офицер – самый прекрасный, самый честный, самый благородный человек. Он отсчитывал от своего отца и от друзей отца, которые ушли на войну после выпускного, и победили фашизм. Хотя автокарщик любил книги, и больше всего французскую литературу, и больше всего Стендаля, которого и я тогда обожала, и говорил, что если бы так не любил армию, то непременно стал бы филологом, но на многие вещи современной жизни он смотрел совершенно перпендикулярно, у него в мозгу были жёсткие конструкции, он верил в правильность того, что произошло в Праге, он не считал, что наши ребята-танкисты совершили зло, – они просто выполняли приказ, а приказы не обсуждаются, иначе армия и государство рухнут, и вообще – мы защищали там социалистические завоевания, мы защищали бедных чехословаков от злых экстремистов, мы отстаивали их прекрасную действительность от происков врагов, наши ребята там рисковали своими жизнями, это был братский долг, ну и так далее…
Так что дружбы с будущим офицером у нас не получилось. Вскоре он ушёл в армию, которую так любил, и больше я о нём ничего не знаю. Среди имён нынешних военачальников я его имени не встречала. Видимо, погиб бесславно в каком-нибудь советско-китайском конфликте, или на жарких просторах Африки, защищая социалистические завоевания где-нибудь в Эфиопии или в Анголе… Наивный мальчишка, любящий Стендаля, но свято верящий в правильность военных приказов…
Мой одноклассник Жорка тоже сейчас служит в армии, и тоже в танковых войсках. А если его куда-нибудь пошлют, он тоже, не обсуждая, будет выполнять приказ? Скорее всего – да, ведь Жорка побоялся когда-то даже выступить против учительницы, которая несправедливо гноила нашего одноклассника. Сам же (сам!) предложил всем встать на его защиту – и сам же отступился… Так неужели он способен не выполнить приказ военачальника? Жорка по дороге домой заехал к нам на два дня. Фёдор, которому Жорка всегда нравился, расспрашивал его о службе, рассказывал о своей службе в армии, вспоминал всякие смешные случаи, гоготал, как он умеет гоготать, когда у нас гости… Я в те дни слушала Мендельсона. «Ты не боишься сойти с ума от этой музыки?» – спросил Жорка. «Напротив. Она меня спасает…» Жорка, в мыслях своих, видно, покрутил пальцем у виска…Трудно мне с вами, жители других планет, найти общий язык. Трудно. Точнее – просто невозможно. А у Жорки с Фёдором такое взаимопонимание, что мне Фёдора даже жалко: надо им было с мамой родить себе ещё и мальчика. Очень Фёдору не хватает сына.
Хотя… если бы он давил на сына, как давит на меня, сын от него сбежал бы. Так что, можно считать, что сын от него уже сбежал…
* * *
Зима, скрипучие морозы, дивный лес, лыжи…
Орган в Зале Чайковского…
Запах горячего сургуча…
* * *
За весь год – несколько стишков, написанных на почтовых бланках. Написанных как бы в пустоте. Еще не в Москве. Еще в нигде… Этот город не спешил становиться моим. Я словно бы топталась у порога, в ожидании, когда меня окликнут. Бывали минуты, когда казалось, что не окликнут никогда…
Я по-прежнему утешалась Паустовским, а ещё Стефаном Цвейгом, его «Письмо незнакомки» я знала почти наизусть – так же, как «Бегущую по волнам» Грина.
И продолжала накладывать горячие сургучные печати на чужие ценные письма…
* * *
Настало моё второе московское лето.
Из Литературного института опять пришёл отказ: стихи мои вновь не прошли творческий конкурс. Значит, надо выбирать другой вуз. Если не поступлю и в этом году – Фёдор меня съест! Ведь мне через месяц девятнадцать! Я – старуха. Откладывать дальше с институтом вроде некуда.
Остановилась на Полиграфическом. Редакторский факультет, отделение книговедения. Наверное, это то, что мне нужно. Это близко к литературе.
Ушла из своего «горячего окошка». Перешла на телеграф. Ношу телеграммы. Так у меня больше времени на подготовку к экзаменам.
Летом опять центр слуха-речи. Замечательный дефектолог Белла Юрьевна Абелева. Оказалось, что мы живём по соседству, возвращаемся домой обычно вместе, болтаем всю дорогу, она молоденькая, обожает театр. Цирк тоже любит, Енгибаров ей нравится. Каждому новому человеку мне нужно тут же рассказать о Енгибарове. И если этот человек Енгибарова любит – значит, человек хороший, можно общаться.
Девчонки из вагончика к цирку были равнодушны, о Енгибарове даже не слышали, так что говорить с ними мне было не о чем, тем более, они были одержимы сверхзадачей – той самой, о которой мне прожужжала уши Варвара Ильинична из Безбожного переулка: они мечтали найти в Москве мужей и «зацепиться» здесь. «Тебе хорошо, – говорили они, – у тебя московская прописка, можно замуж не спешить, а нам без этого – никак».
В августе сдала экзамены в Полиграфический институт. И поступила. Легко.
Мама была счастлива. А Фёдор даже не поздравил. Смотрел волком. Я думаю, он желал моего провала. Который бы подтвердил мою полную неспособность определиться в этой жизни. И дал бы ему, Фёдору, право услать меня куда подальше – а именно: в его родной строительный институт, в город Днепропетровск. Но я лишила его этой возможности, и он злился, даже не скрывая этого.
Да и вообще Фёдор не имел привычки скрывать свои чувства. Хорошо это или плохо? Вроде, искренность – замечательное качество, но почему мне от этого замечательного качества так плохо и неуютно в жизни? Когда Фёдор приходит вечером с работы и зыркает в мою сторону, у меня всё сжимается внутри… и я завидую девчонкам из вагончика. Они завидуют мне (ах, московская прописка!), а я – завидую им (на них никто не зыркает!). Как несовершенна жизнь!…
«ТОМБЭ ЛЯ НЭЖЭ…» ПАДАЛ СНЕГ…
Глава вторая
«Томбэ ля нэже…» – поёт задумчиво и немного печально Сальваторе Адамо.
Поёт осенью 1969 года… в хмурой загазованной Москве, поливаемой нудными дождями…
«Томбэ ля нэже…» – поёт Адамо своим нестареющим, не тускнеющим голосом осенью 2005, когда я пишу эти строки. Поёт на моём маленьком безлюдном острове среди бескрайнего океана памяти…
Томбэ ля нэже…» – стоит мне услышать, и я мгновенно переношусь в конец 69-го года…