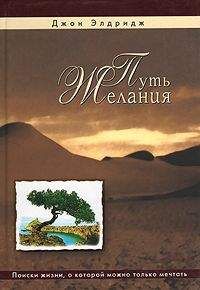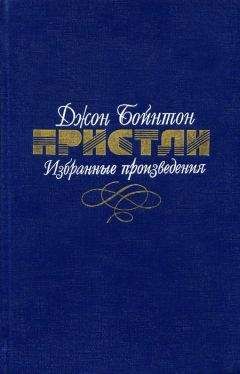Элинор, слишком привыкшая к той пагубной экзальтации чувств, рядом с которой всякое обычное их проявление кажется столь же недостаточным и слабым, как свежий воздух - для тех, кто привык опьянять себя, вдыхая пряные ароматы, дивилась, как это отрешенное холодное и чуждое всем земным страстям существо может выносить свою неподвижную и однообразную жизнь. Каждый день тетка ее вставала в один и тот же час, в один и тот же час начинала молиться, в один и тот же час принимала приходивших к ней единоверцев, которые вели такую же однообразную и скучную жизнь, как она; в один и тот же час обедала, потом снова молилась и, наконец, - в один и тот же час уходила к себе; и при всем этом молилась она без благоговения, ела без аппетита, и, когда ложилась в постель, ее совсем не клонило ко сну. Жизнь ее напоминала собой какой-то механизм, в котором, однако, все было настолько слажено, чтосовесть его как будто была спокойна, и он даже испытывал некую мрачную удовлетворенность теми движениями, которые совершал.
Напрасно Элинор старалась вернуться к этой безразличной, ничем не заполненной жизни; она жаждала ее так, как где-нибудь в африканской пустыне человек, погибающий от недостатка воды, может на миг захотеть перенестись в Лапландию, испить ее вечных снегов, чтоб в ту же минуту, спохватившись, начать недоуменно спрашивать себя, как же это ее обитатели могут жить среди вечного снега. Она присматривалась к существу, которое значительно уступало ей в силе ума и чьи чувства, пожалуй, нельзя было даже назвать спокойными, и удивлялась, что сама она так несчастна. Увы! Она не знала, что только люди бессердечные и начисто лишенные воображения считают себя вправе пользоваться всеми благами жизни и что наслаждаться ими способны только они одни. То ленивое безразличие, с которым посредственность относится ко всему, будь то труд или развлечение, вполне их удовлетворяет: удовольствие для них всего-навсего избавление от чего-то неприятного, понятие же страдания для них отожествляется с болью, которую в данную минуту испытывает их тело, или же с каким-либо внешним бедствием; истоки страдания или радости у этих людей никогда не таятся в сердце, в то время как у людей, обладающих глубокими чувствами, именно в нем находится источник того и другого. Тем хуже для них: человеку, которому приходится заботиться о своих насущных потребностях, который бывает удовлетворен тем, что обеспечил себя всем необходимым, может быть, легче всего живется на свете; все, что выходит за пределы этого, - не более чем безумные мечты или муки обманутых ожиданий. Серый и унылый зимний день с его непрестанным сумраком, которому не дано рассеяться или сгуститься (и на который мы привыкли взирать равнодушно, не опасаясь за будущее и не испытывая перед ним ужаса), куда лучше неистово сверкающего летнего дня, когда лучи заходящего солнца пурпуром и золотом разливаются по небу и когда при тускнеющем их свете мы вдруг в испуге замечаем, как на темном горизонте собираются тучи, видим, как они надвигаются с востока мощными полчищами и как небеса ниспосылают нам громы, чтобы нарушить наш покой, и молнии, могущие превратить нас в горсточку пепла.
* * * * * *
Элинор ожесточенно боролась с судьбой; после того как она пожила в замке Мортимеров, ум ее развился и окреп, развились и ее чувства, и это оказалось для нее роковым. Как это страшно, когда высокий ум и горячее сердце сталкиваются с совершеннейшей посредственностью - и самой жизни и людей, которые их окружают, и осуждены на то, чтобы с ними жить! Тараны встречают на своем пути набитые шерстью мешки; молнии ударяются об лед и, шипя, тухнут. Чем больше мы тратим усилий, тем решительнее обезоруживает нас слабость наших противников, и самым заклятым врагом нашим становится не что иное, как наша же собственная сила, ибо она напрасно пытается овладеть неодолимою крепостью, имя которой пустота! Какое это безнадежное дело стараться одолеть неприятеля, который не говорит на нашем языке и не владеет нашим оружием! Элинор отказалась от этой попытки; однако она все еще продолжала бороться со своими чувствами, и, может быть, поединок, в который она теперь вступила, был самым тяжким из всех. Первым, кто приобщил ее к религии, была ее тетка-пуританка, и, независимо от того, истинны или лживы были эти изначальные впечатления, они были настолько живы и притягательны, что ей теперь не терпелось их в себе воскресить. Когда у матери отняли ее первенца, она готова прижать к своей груди даже чужое дитя. Элинор помнила трогательную сцену из тех времен, когда, еще ребенком, она жила в том самом доме, куда она попала сейчас.
Старый священник-диссидент, праведностью жизни своей и простотой походивший на апостола Иоанна, обращался со словами утешения к тем немногим из своей рассеянной паствы, которые собрались в доме у ее тетки, и в это время был арестован городскими властями {42}. Старик упросил пришедших за ним представителей закона помедлить несколько минут, и констебли, проявив обычно не свойственную им терпимость и человечность, исполнили его просьбу. Тогда, повернувшись к собравшимся, которые, несмотря на поднявшуюся вокруг суматоху, продолжали стоять на коленях и молиться - уже за своего пастыря, он прочел им вдохновенные слова пророка Малахии, которые всегда ободряюще действуют на собравшихся для общей молитвы христиан: "Тогда те, кто боялись господа, стали часто переговариваться друг с другом, и господь это услышал" 43. Не успел старик договорить этих слов, как чьи-то грубые руки подхватили его и потащили в тюрьму, где он вскоре умер.
Сцена эта произвела потрясающее впечатление на девочку. Все великолепие замка Мортимеров не могло ни затмить ее, ни заставить забыть, и теперь в памяти ее оживали звуки этих слов и вся картина, которая: так глубоко потрясла ее детское сердце. Твердо решив добиться своего, она не щадила сил, чтобы возродить в душе прежнюю веру; она считала, что теперь только это может ее спасти. Подобно жене Финееса, она постаралась дать жизнь сыну, хоть и нарекла его Ихавод {44}, и понимала, что былая слава ушла. Она уединялась в маленькой комнатке, садилась там в то самое кресло, в котором сидел столь чтимый ею старец и откуда его сорвали и уволокли, и ей чудилось, что ушел он так, как возносятся на небо пророки. Как ей хотелось тогда ухватиться за полу его плаща и улететь вместе с ним, даже если бы впереди ждала тюрьма и смерть. Повторяя последние сказанные им слова, она пыталась вызвать в себе то же чувство, которое они некогда вызвали в ее сердце, и с тоской и мукой убеждалась, что теперь слова эти ничего для нее не значат. Когда жизнь и любовь отбрасывают нас вдруг назад, то обратный путь, который мы бываем вынуждены проделать, чтобы вернуться к истокам, оказывается в тысячу раз мучительнее и труднее, чем тот, который вел нас вперед - к цели. Ведь тогда, от начала и до конца, рядом была окрылявшая нас надежда. А тут - раскаяние и разочарование, хлеща бичом, гонят назад, и каждый шаг наш залит слезами и кровью. И счастье для путника, если кровь эта сочится из его сердца, это значит, что конец пути близок.
* * * * * *
По временам Элинор, которая не забыла ни слов, ни привычек, усвоенных ею в прежней жизни, начинала вдруг говорить так, что тетка ее проникалась надеждой, что, как говорили в те времена, "все дело в ней самой", и когда старая пуританка, воодушевленная тем, что племянница ее снова обратилась на путь истинный, пускалась в пространные богословские толки относительно участи различных святых и проявленной ими стойкости, девушка вдруг прерывала ее восклицаниями, которые та скорее готова была принять за бред одержимой, нежели за связную речь человеческого существа, да еще такого, которое с детства знало Священное писание.
- Дорогая тетушка, - сказала как-то Элинор, - не думайте, что я равнодушна к вашим словам. С детских лет благодаря вашим заботам, я узнала Священное писание и _ощутила на себе_ силу, которую дает человеку вера. Вслед за тем мне довелось изведать все те радости, которые дарует нам разум. Окруженная роскошью, я общалась с людьми большого ума. Я видела все, что жизнь мне могла показать. Я встречалась как с богатыми и с бедными, с людьми высокой души, которые живут в бедности, и с людьми светскими, которые окружены роскошью; я пила до дна из чаши, которую протягивали мне те и другие, и вот, клянусь вам, _одно только мгновение, дарованное сердцем_, один только сон, который мне снился (а я думала, что никогда уже не проснусь), стоит всей той жизни, какую на этом свете расточительно ведут люди тщеславные и пустые и те, что мнят ее такою же и за гробом и вводят в заблуждение всех других.
- Несчастная! Ты погубила свою душу навеки! - в ужасе вскричала убежденная кальвинистка, заламывая руки.
- Оставьте ваши упреки, - спокойно ответила Элинор, преисполненная того достоинства, которое дается человеку страданием, - ведь если я действительно отдала земному чувству то, что предназначено одному только богу, то разве в грядущей жизни я не получу воздаяния за этот мой грех? Разве расплата за него не началась уже и сейчас? Так неужели же нельзя избавить нас от упреков, если мы уже страдаем больше, чем того может нам пожелать наш злейший враг? Если сама жизнь наша сделалась упреком более горьким, чем тот, который может исторгнуть чужая злоба? Что значат все мои стоны перед тем ударом, что мне был нанесен! - добавила она, отирая со своей исхудалой щеки холодную слезу.