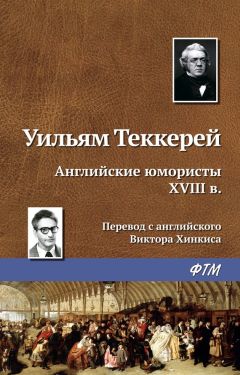Известна и другая забавная история, которую, я полагаю, включил в свое собрание знаменитый собиратель курьезов мистер Джозеф Миллер или его последователи. Сэр Ричард Стиль в ту пору, когда он был очень увлечен театром, построил очень милый собственный театр и прежде чем открыть двери своим друзьям и гостям, пожелал испробовать, достаточно ли хорошо будет слышно в зале актеров. Для этого он уселся в самом заднем ряду и попросил плотника, который строил помещение, сказать что-нибудь со сцены. Тот сперва отнекивался, ссылаясь на то, что непривычен произносить речи и не знает, что сказать его чести; но добродушный хозяин попросил его сказать, что взбредет в голову; тогда плотник заговорил, и его было прекрасно слышно. «Сэр Ричард Стиль! – сказал он. – Вот уже три месяца я со своими подручными работаю в этом театре, но мы еще и не нюхали денег вашей чести; мы будем вам весьма признательны, ежели вы заплатите нам немедля, а покуда вы этого не сделаете, мы не вобьем больше ни единого гвоздя». Сэр Ричард сказал, что ораторское искусство плотника безукоризненно, но тема ему не очень по душе.
В произведениях Стиля глубоко подкупает их непосредственность. Он писал так быстро и небрежно, что ему поневоле приходилось быть искренним с читателем, у него просто не хватало времени лгать. Он был не слишком начитан, зато хорошо знал жизнь. Он видел людей, бывал в тавернах. Он жил среди ученых, военных, придворных аристократов, светских модников и модниц, писателей и острословов, обитателей долговых тюрем и завсегдатаев всех клубов и кофеен города. Его любили во всяком обществе, потому что сам он любил всякое общество; и нам приятно видеть его радость, как приятно слышать смех детей в зале во время пантомимы. Он был не из тех отшельников, чье величие обрекло их на одиночество; напротив, он, мне кажется, был самым общительным и восторженным из писателей; и полный сердечного восхищения; и доброжелательства, он покоряет тем, что приглашает вас разделить с ним удовольствие и хорошее расположение духа. Его смех звенит по всему дому. Вероятно, он был незаменим, когда играли трагедию, и плакал не меньше, чем самая чувствительная молодая дама в ложе. У него было пристрастие к красоте и доброте, где бы он их ни встречал. Он страстно любил Шекспира, больше, чем любой из его современников; и в силу щедрости и широты своей натуры призывал всех вокруг любить то, что любил сам. Он никого не огорчал кислой похвалой; он жил в мире и был его неотъемлемой частью; и его наслаждение жизнью представляет собой поразительную противоположность яростному возмущению Свифта и одинокой безмятежности Аддисона[95]. Позвольте мне привести вам по отрывку из сочинений каждого писателя, они написаны на одну и ту же тему, очень серьезны и любопытнейшим образом раскрывают мироощущение каждого. Мы уже говорили, что юморист откликается на все человеческие поступки, от самых пустяковых до самых важных и торжественных. Все, кто читал наших старых классиков, знают ужасные строки Свифта, в которых он выявляет свою философию и описывает конец человечества:[96]
Смущен, ошеломлен и потрясен,
Явился мир перед Зевесов трон.
Бледнели грешники, и небосвод
От гласа Зевса, мнилось, упадет:
«Вы беззаконны, в ваших душах тьма,
Ничтожные по скудости ума,
Вы, в лабиринте бросившие нить,
Из гордости не ставшие грешить,
Вы, что других клянете, дабы впредь
В геенне побежденных лицезреть,
(Один народ другим укажет путь,
Не зная воли Зевсовой ничуть),
Безумье ваших дел я зрю сейчас,
Мне мерзко даже гневаться на вас,
Отныне не молите вам помочь.
Я проклинаю вас – ступайте прочь!»
Аддисон, беря эту же тему, пишет в совершенно ином тоне в своем знаменитом очерке о Вестминстерском аббатстве («Зритель», Э 26): «Я, со своей стороны, хотя всегда сохраняю серьезность, не знаю, что значит быть печальным, и поэтому могу взглянуть на самые глубокие и торжественные явления природы с таким же удовольствием, как и на самые веселые и приятные. Когда я смотрю на могилы великих людей, всякое чувство зависти исчезает во мне; когда я читаю эпитафии красавиц, всякое неумеренное желание гаснет, когда я вижу горе родителей на могиле, мое сердце трепещет от сострадания; когда я вижу могилу самих родителей, то думаю, как тщетно скорбеть о тех, за кем мы вскоре последуем».
(Я уже говорил, что, по моему мнению, сердце Аддисона едва ли очень уж трепетало и он едва ли слишком предавался «тщетной скорби»).
«И когда, – продолжает он, – я вижу королей, лежащих рядом с теми, кто их свергнул; когда я думаю о соперничавших талантах, обладатели которых покоятся бок о бок, или о святых, которые своими раздорами и спорами раскололи мир, я со скорбью и удивлением размышляю о мелкой суете, о людских кознях и препирательствах. И когда я вижу даты на могилах тех, кто умер только вчера, и тех, кто умер шестьсот лет назад, я думаю о Великом Дне, когда все мы станем современниками и вместе приблизимся к престолу вечного судии».
На эту же тему пишет третий наш юморист. Вы, конечно, обратили внимание в предыдущих цитатах на своеобразие юмора каждого писателя – как раскрывается тема и используется контраст, как рисуется факт смерти и на какие размышления этот факт наводит, – а теперь послушайте третьего, его тема здесь – тоже смерть, скорбь и могила. «Впервые я испытал чувство горя, – пишет Стиль в «Болтуне», – после смерти моего отца, когда мне еще не было пяти лет; однако я был скорее удивлен тем, что происходит со всеми в доме, и едва ли действительно понимал, почему никто не хочет с нами играть. Помню, я пошел в комнату, где он лежал в гробу, – рядом в одиночестве сидела моя мать и плакала. В руке у меня была теннисная ракетка, и я начал колотить ею по гробу и звать папу; не знаю, каким образом, но я сознавал, что он заперт там. Мама подхватила меня на руки и, не в силах более безмолвно сносить горе, ее обуревавшее, чуть не задушила меня в объятиях и сказала, захлебываясь слезами, что «папа не слышит меня и больше не будет со мной играть: его закопают в землю, и оттуда он уже к нам не выйдет». Она была красивая женщина, с благородной душой, и в ее горе было достоинство, при всем неистовстве этого порыва, который, как мне кажется, поразил меня неосознанным ощущением скорби, проникшим, прежде чем я понял, что значит скорбеть, в глубину моей души, и с тех пор сострадание стало самой слабой моей струной».
Можно ли найти три более характерных склада человеческого ума? «Болваны, что знаете вы об этой тайне? – говорит Свифт, попирая могилу и пронося свое презрение к человечеству буквально за порог смерти. – Жалкие слепые ничтожества, как смеете вы пытаться постичь непостижимое и как могут ваши тусклые глаза проникнуть в бездну бесконечных небес?» Аддисон, в гораздо более мягких выражениях и снисходительном тоне, высказывает почти те же чувства; он говорит о соперничестве талантов, о борьбе между святыми с тем же скептическим спокойствием. «Смотрите, сколь ничтожный и суетный прах являем мы собой», – говорит он, улыбаясь над могильными плитами, и глядит в небо, усматривая там, как всегда, божественное сияние, и говорит почти вдохновенно о «Великом Дне, когда все мы станем современниками и вместе приблизимся к престолу вечного судии».
Третий тоже говорит о смерти и, по-своему выражая мораль, которой учит небо, ведет вас к гробу отца, показывает свою красавицу мать в слезах и себя, несмышленого малыша, в удивлении стоящего рядом с нею. Он сам проливает искренние слезы, когда берет вас за руку и ищет сочувствия. «Смотрите, как добры, непорочны и прекрасны женщины, – говорит он, – как отзывчивы маленькие дети! Будем же любить их и друг друга, брат мой, – видит бог, как нужны нам любовь и прощение». Итак, каждый смотрит на это по-своему, говорит на свой лад и молится тоже по-своему.
Когда Стиль взывает о сочувствии к действующим лицам в этой очаровательной сцене Любви, Скорби и Смерти, кто может ему отказать? Ему уступаешь, как наивной просьбе ребенка или мольбе женщины. Мужчина чаще всего тогда и бывает по-настоящему мужчиной, когда он, так сказать, утрачивает свой мужской характер, и чувствами его движет преданность, сострадание и самопожертвование, безотчетная потребность лелеять невинных и несчастных, защищать нежных и слабых. Чем был бы Стиль, если бы он не был нашим другом? Ведь он далеко не самый блестящий юморист, не самый глубокий мыслитель: зато он наш друг; мы любим его, как дети любят свои игры, потому что он чудесен. Разве мужчину любят за то, что он самый умный или мудрый из людей, или женщину за то, что она самая добродетельная, или говорит по-французски, или играет на фортепьянах лучше всех прочих представительниц ее пола? Признаюсь, я люблю Дика Стиля-человека и Дика Стиля-писателя гораздо больше, чем многих гораздо лучших людей и гораздо лучших писателей.
К сожалению, почти все собравшиеся здесь должны верить на слово, какой Стиль был чудесный, и, разумеется, не могут с ним познакомиться. Дело не в том, что Стиль был хуже своего времени; напротив, он был гораздо лучше, правдивее и мужественнее большинства своих современников. Но в том обществе творились такие дела и звучали такие разговоры, которые заставили бы вас содрогнуться. Что почувствовал бы в наше время воспитанный юноша, если бы увидел на балу, как юная особа, предмет его нежных чувств, достает табакерку и отправляет в нос понюшку; или если бы за обедом, сидя рядом с кавалером, она нарочно сунула в рот нож? Если бы она перерезала этим ножом глотку своей матери, матушка едва ли была бы более скандализована. Я говорю об этих особенностях минувших времен в оправдание своего любимца Стиля, который был не хуже, а нередко много деликатнее своих ближних.