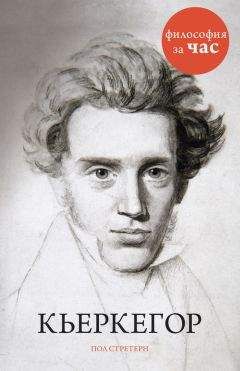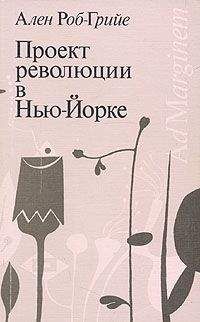Тем временем Жижи открыла скрипучую дверь шкафа, в котором лишь в одной половине укреплена штанга с вешалками, и сейчас с остервенением роется в одежде, в белье, в куче безделушек, сваленных как попало на полках, по всей видимости, тщетно пытаясь отыскать какую-то маленькую вещицу. Кушак? Платок? Простенькое украшение? В раздражении она роняет на пол изящную черную туфельку на высоком каблуке, треугольная союзка которой покрыта голубыми металлическими чешуйками. А.Р. спрашивает ее, не потеряла ли она чего-нибудь, однако его не удостаивают ответом. Но вот она, похоже, находит то, что искала – какую-то таинственную вещицу, назначение которой остается для него загадкой, – после чего снова закрывает шкаф, поворачивается к нему, и на лице у нее неожиданно появляется прежняя улыбка. Он говорит: «Если я правильно понимаю, я занял вашу комнату?»
– Нет, не совсем так. Ты же сам видишь, какие тут маленькие кровати! Просто во всем доме тут единственное зеркало, в котором можно увидеть себя во весь рост… И потом, раньше это была моя комната… сразу или почти сразу после рождения и до 1940 года… Мне было тогда пять лет. У меня была такая игра – я воображала, что раздваиваюсь, тут ведь две кровати и два прибора для умывания. Иногда я была W, иногда М. Хотя они были близнецы, я воображала, что они нисколько не похожи друг на друга. Для каждого я придумала свои привычки, свой характер, особые причуды, они думали и вели себя совершенно по-разному… И я тщательно следила за тем, чтобы каждый оставался самим собой, каким я его выдумала.
– Что стало с М.?
– Ничего. Маркус фон Брюке умер еще ребенком… Портьеры раздвинуть?
– Зачем? Вы же сказали, что сейчас глубокая ночь.
– Это неважно. Вот увидишь! Все равно там вообще нет окна…
Без видимой причины девочка приходит в возбуждение и тремя пружинистыми прыжками, прямо по матрацу с освященными традицией синими полосками преодолевает расстояние между зеркальным шкафом и плотно прикрытыми красными портьерами, хватается двумя руками за их края и одним рывком приводит в движение тонкие деревянные кольца на золотистой металлической штанге, которые разъезжаются вправо и влево с громким многообещающим треском, словно между двумя половинками этого занавеса должна предстать взору долгожданная театральная сцена. Но за тяжелыми портьерами скрывается всего лишь стена.
На ней, и впрямь, нет ни широкого стеклянного экрана, ни обычного старомодного окна, ни малейшего отверстия, ничего, кроме оптической иллюзии: на штукатурке нарисовано окно-обманка с видом на вымышленный пейзаж, поразительно правдоподобное, почти осязаемое, еще и благодаря искусно распределенным бликам, которые разом вспыхнули, как только открылись портьеры. За стеклами, обнесенными косяками и деревянными рамами классического двухстворчатого окна, на которых с маниакальными потугами на какой-то гипертрофированный реализм тщательно прорисованы все продольные канавки и желобки, все трещины и мелкие изъяны древесины, и даже местами облупившийся металлический шпингалет, – за этими двенадцатью прямоугольными стеклами (по два ряда с тремя стеклами в каждой створке) разворачивается зловещая батальная сцена. Повсюду среди груд щебня лежат убитые или умирающие. На них хорошо узнаваемая зеленоватая форма вермахта. Многие уже без касок. Справа в глубь картины тянется колонна пленных, разоруженных, в таком же более или менее неполном обмундировании, оборванных и грязных, которых конвоируют русские солдаты, держа их под дулами своих короткоствольных автоматов.
На переднем плане, изображенный в натуральную величину, совсем близко, кажется, в двух шагах от окна, стоит, пошатываясь, раненый офицер, тоже немец, к тому же слепец, ибо его голова, от уха до уха, на скорую руку перебинтована повязкой с пятнами крови на месте глаз. Даже из под бинта струится кровь – по крыльям носа прямо ему на усы. Вытянутой правой рукой с растопыренными пальцами он, похоже, шарит перед собой, боясь наткнуться на препятствие. Впрочем, за левую руку его держит белокурая девочка, лет тринадцати-четырнадцати, одетая как украинская или болгарская крестьянка, и ведет, вернее, тянет его к этому невероятному и чудесному окну, до которого она пытается добраться вот уже целую вечность; свободной (левой) рукой она указывает на оконные стекла, каким-то чудом уцелевшие, торопясь в них постучать в надежде на то, что за ними она найдет помощь, по крайней мере, убежище, не столько для себя, сколько для слепца, которого она опекает с каким-то, Бог знает с каким, тайным умыслом… Если приглядеться, можно заметить, что это сердобольное дитя очень похоже на Жижи. Маленькая санитарка так спешила, что пестрый платок сбился у нее с головы. Распущенные золотистые волосы овевают ее лицо, разгоряченное отважным порывом, предчувствием неведомых опасностей, духом приключений… Прерывая затянувшуюся паузу, она шепчет с сомнением в голосе, словно не хочет верить своим глазам: «Говорят, Вальтер нарисовал эту бредятину, чтобы как-то отвлечься…»
– Так у вас в детской не было окна?
– Конечно, было!., оно выходило на задний двор, в сад, из него были видны большие деревья и… козы. Потом его зачем-то замуровали, наверное, как только началась осада Берлина. Ио говорит, что мой сводный брат написал эту фреску, когда шло решающее сражение, он тогда торчал здесь, его в последний раз отпустили в увольнение… (11)
Слева на заднем плане виднеются руины величественных зданий, навевающих мысли о Древней Греции, ряды обломанных на разных уровнях колонн, открытый портик, осколки рухнувших архитравов и капителей. По грудам развалин карабкается заблудшая черная козочка, словно обозревая эту историческую сцену. Если художник хотел изобразить (по памяти или со слов товарища) какой-то определенный эпизод второй мировой войны, то это может быть советское наступление в Македонии в 1944 году. Над холмами длинными параллельными полосами стелятся темные облака. Огромное, но уже бесполезное орудие подбитого танка наведено на небеса. Сосновая роща, видимо, скрывает от русских двух наших беглецов, которым я в моем нынешнем бедственном положении, конечно, сопереживаю, тем более что лицом и телосложением этот мужчина явно похож на меня.
Примечание 11: непредсказуемая Геге на сей раз ничего не выдумывает и без искажений излагает некоторые достоверные сведения, полученные от матери. И все же, одно маленькое уточнение: на берега Шпрее я прибыл отнюдь не потому, что меня отпустили в увольнение, да и вряд ли это было возможно весной сорок пятого, а, совсем напротив, для выполнения одного крайне рискованного специального задания в качестве «связного», которое с началом русско-польского наступления 22 апреля потеряло всякий смысл. К сожалению или к счастью – кто его знает? Кроме того, отметим, – хотя этим здесь никого не удивишь, – что девочку, похоже, нисколько не смущают некоторые неувязки в ее объяснениях: если к началу решающего штурма я находился в Берлине, то я никак не мог погибнуть за несколько месяцев до этого в одном из арьергардных боев на Украине, в Белоруссии или в Польше, а ведь совсем недавно она, кажется, утверждала именно это.
Что касается древнегреческих руин, замеченных нашим рассказчиком на отдаленных холмах, то они, – если память мне не изменяет, – были зеркальным отражением других руин, изображенных на большой аллегорической картине, которая висела на той же стене в детской, когда я был еще ребенком. Впрочем, это могло быть и аллюзией на творчество Ловиса Коринта или бессознательной данью уважения к этому художнику, чьи работы когда-то повлияли на мою манеру рисования, почти так же сильно, как произведения Каспара Давида Фридриха, который всю свою жизнь, на острове Рюген, силился выразить то, что Давид д'Анже называет «трагедией пейзажа». Однако стиль, в котором выполнена интересующая нас фреска, на мой взгляд, не имеет отношения ни к одному, ни к другому, если не считать драматические небеса в духе Фридриха, поскольку, вернувшись с фронта, я стремился главным образом точно передать свои личные впечатления от войны.
Коль скоро речь зашла о моем любимце Фридрихе, мне бы хотелось заодно исправить и необъяснимую ошибку (если это, конечно, не очередное намеренное искажение, цель которого неясна), закравшуюся в рассуждения так называемого Анри Робена о геологических особенностях немецкого побережья Балтийского моря. Каспар Давид Фридрих, действительно, оставил после себя несметное множество картин с изображением прибрежных скал из искрящегося мрамора или, говоря прозаически, яркого мела, которыми славится Рюген. То, что в воспоминаниях нашего скрупулезного хрониста они превратились в огромные гранитные глыбы, похожие на армориканские скалы его детства, сильно меня озадачивает; тем более что при его основательных познаниях в области агрономии, которые он любит демонстрировать (или выставлять напоказ, как говорят злые языки) он никак не мог нечаянно допустить такую ошибку; древняя герцинская платформа не простирается у нас севернее зачаровывающего горного массива Гарц, где кельтские легенды уживаются с германскими мифами: заколдованный Лес потерь, этот второй Броселианд,[17] и юные ведьмы Walpurgisnacht.[18]