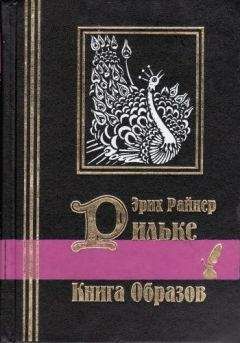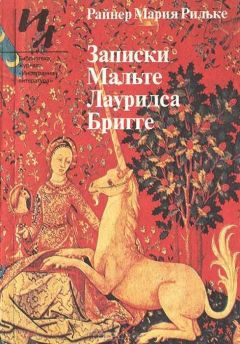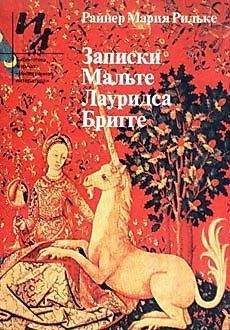Mademoiselle время от времени страдала мигренями, необычайно сильными, и в такие дни меня нелегко было докликаться. Если отцу случалось обо мне справиться - я знаю, в парк посылали кучера, но он меня не находил. Сверху, из гостевой, я видел, как он бегает и зовет меня у начала долгой аллеи. Гостевые располагались одна с другой рядом по фасаду Ульсгора и, так как в ту пору ездили к нам уже редко, почти всегда стояли пустые. Но к ним примыкала еще большая угольная, обладавшая для меня ни с чем не сравнимой притягательностью. Я не обнаружил посреди нее ничего, кроме старого бюста, изображавшего, кажется, адмирала Юэля *, зато по стенам тянулись глубокие серые стенные шкафы, так что даже окна были вырублены в голом беленом пространстве над ними. В дверце одного из шкафов торчал ключ, подходивший и ко всем остальным. Скоро я обследовал все: камергерские мундиры восемнадцатого столетия, холодные от затканного серебра, и к ним нарядные, расшитые камзолы; костюмы ордена Данеброга и Слона, которые я принял сначала за женские платья, так были они торжественно пышны и с таким нежным на ощупь подбоем. И, разделенные подпорками, потупленно висели настоящие робы, как переростки-марионетки, участницы грандиозного действа, столь безнадежно устарелого, что головы их пустили на что-то другое. А рядом были еще шкафы, темные, когда их откроешь, темные от глухо застегнутых мундиров, которые, кажется, износились больше прочего и вовсе не желали, чтобы их здесь берегли.
* Йене Юэль (1631-1700) - датский адмирал.
Кто же найдет странным, что я все это извлекал и тащил на свет; что то одно, то другое я прикладывал к себе, набрасывал на плечи; что костюм, который казался мне впору, я торопливо натягивал на себя и, сгорая от любопытства и возбуждения, кидался в соседнюю гостевую, к настенному зеркалу, составленному из отдельных, неравномерно зеленых кусков. Ах, как тянуло поскорей перед ним очутиться, и как это оказывалось восхитительно. Когда что-то выступало из зеленого сумрака медленней, чем ты сам, ибо зеркало словно не верило, что к нему обратились, и не торопилось ответить спросонья. Но в конце концов ему приходилось ответить. И вот является нечто - чуждое, небывалое, противное всем догадкам, внезапное, самостоятельное, и, быстро его оглядев, тотчас ты узнаешь себя, с некоторой даже иронией, чуть не портящей все удовольствие. Но сразу же начинаешь говорить, кивать, кланяться, отходишь, непрестанно озираясь, вновь приближаешься с трепетом и решимостью и вновь пришпориваешь фантазию, пока тебе это не надоест.
Тогда-то узнал я, какую власть имеет над нами костюм. Едва я облачался в один из этих нарядов, я вынужден был признать, что попал от него в зависимость; что он мне диктует движения, мины и даже прихоти; рука, на которую все опадал кружевной манжет, уже не была всегдашней моей рукою; она двигалась как актер и даже сама собой любовалась, каким это ни звучало бы преувеличением. Игра моя, однако, никогда не уводила так далеко, чтобы я на самого себя смотрел отчужденно; напротив, чем больше разнообразились мои превращения, тем больше я в себе утверждался. Я становился все более дерзким, все более заносился, упиваясь собственной изобретательностью. Я не подозревал об искушении, прятавшемся за этой возраставшей самонадеянностью. Рок подстерег меня, когда вдруг поддался последний шкаф, который я считал неприступным, когда вместо определенных костюмов мне открылись груды маскарадных одежд и сердце у меня зашлось от множества таившихся в них возможностей. Чего там только не было - не перечесть. Кроме bautta *, которая хорошо мне запомнилась, были разноцветные домино, женские платья, звонко обшитые монетами, костюмы Пьеро, казавшиеся мне дурацкими, и пышные турецкие шальвары, и персидские фески, из которых выскальзывали мешочки с камфарой, и диадемы с глупыми, невыразительными камнями. Все это я чуть-чуть презирал, так было все это жалко-фальшиво, болталось так сиро, потерянно и так безвольно обвисало, вытащенное на свет. Но хмелем ударяли мне в голову просторные мантии, накидки, покрывала и шали - все эти широкие неупотребимые ткани, то податливые, нежные, вкрадчивые, то гладко ускользающие из рук, то витающие, как ветерок, то тяжко опадающие под собственным весом. Они-то впервые открыли мне неограниченный выбор: быть ли предназначенной на продажу рабыней или Жанной д'Арк, старым ли королем или волшебником; все это было совершенно осуществимо, благо тут же оказались и маски, большие грозные либо изумленные лица с настоящими бородами и насупленными или вскинутыми бровями. Я никогда прежде не видел масок, но тотчас понял их назначение. Я невольно засмеялся, когда мне пришло на ум, что один наш пес ведет себя так, будто выступает в маске. Я представил себе его преданные глаза, поглядывающие будто из прорезей в волосатой морде. Я все посмеивался, наряжаясь, и даже забыл, кого, собственно, вознамерился изображать. Но было ново и соблазнительно принять решение, стоя у зеркала. Лицо, которое я надел, странно пахло пустотой; оно пришлось плотно по моему, но смотреть было удобно, и, уже в маске, я стал подбирать шарфы и повязывать на голове тюрбаном таким образом, чтобы края маски, снизу исчезавшие в огромной мантии, оказались скрыты и сверху и с боков.
* Старинный венецианский маскарадный костюм (итал.).
Наконец, истощив свою изобретательность, я решил, что достаточно замаскировался. Схватил большую палку, отвел наотлет руку и так, не без труда, но, как казалось мне, полный достоинства, прошествовал в гостевую, к зеркалу.
Это оказалось поистине великолепно, превыше всех ожиданий. Зеркалу ничего не оставалось, как тотчас ответить. Мне не пришлось особенно двигаться; явление в зеркале было совершенно, даже ничего не предпринимая. Но хотелось выяснить, кто же я такой, и, немного помешкав, я воздел наконец обе руки - широким, как ворожащим жестом, который, я тотчас увидел, был единственно верным. Но в самый этот торжественный миг совсем рядом с собой я услышал приглушенный моим маскарадом сложный составной шум; перепуганный, я отвернулся от зеркального образа и, к великому своему огорчению, обнаружил, что я опрокинул круглый столик, уставленный бог знает чем, но чем-то, видимо, очень хрупким. Я согнулся как только мог, и худшие мои опасения подтвердились: все раскололось вдребезги. Оба нелепых зелено-лиловых попугая, конечно, разбились, на разный, но равно неудачный манер. Бомбоньерка, из которой шелковистыми коконами повысыпались конфеты, далеко выбросила крышку, и видна была только одна ее половина, другая запропастилась неизвестно куда. Но всего хуже был разлетевшийся на мелкие осколки флакон, из которого выплеснулись остатки старой эссенции, мерзким пятном расплывшиеся на безупречном паркете. Я поскорей потер его чем-то, что свисало с меня, но пятно делалось только еще черней и противней. Я был в отчаянии. Распрямившись, я поискал глазами какой-нибудь тряпки, чтобы исправить беду. Но ничего не находил. К тому же и взгляд, и каждое движение мое были так стеснены, что я клял глупое свое положение, которого уже не понимал. Я дергал все на себе и только теснее затягивал. Завязки мантии душили меня, шарфы на голове все больше давили. Воздух в комнате помутился, будто запотев от испарений застоявшейся жидкости.
Разъяренный, я кинулся к зеркалу, чтобы как-то следить из-под маски за работой собственных рук. Но оно того только и дожидалось. Для него настал час отмщенья. Покуда я все более неловко пытался избавиться от своего маскарада, оно, уж не знаю как, приковало мой взгляд и навязало мне образ, нет, реальность, чужую, немыслимую реальность, против воли ужаснувшую меня, ибо оно взяло надо мной верх, и теперь уже - я был зеркалом. Я смотрел на огромного жуткого незнакомца, и мне невыносимо показалось оставаться с ним один на один. И не успел я это подумать, случилось самое страшное: я совершенно перестал себя сознавать, я просто исчез. На миг я испытал тянущую, горькую, напрасную тоску по себе, потом остался только он - кроме него, ничего не было.
Я побежал от него прочь, но теперь это он бежал. Он на все натыкался, он не знал нашего дома, не знал, куда броситься. Он попал на лестницу, налетел на кого-то, кто с криком от него отпрянул. Распахнулась дверь, выбежали еще люди. Ах, какое счастье было узнать их! Это была Сиверсен, добрая Сиверсен, и горничная, и лакей из буфетной; теперь все улаживалось. Но они не бросились ко мне на выручку. Их жестокость не имела пределов. Они стояли и хохотали. Господи - они еще могли хохотать! Я плакал, но маска не пропускала слез, они катились по щекам и тотчас высыхали, катились и высыхали. И я упал перед ними на колени, как никогда еще не падал на колени ни один человек; я упал на колени, я тянул к ним руки, я молил: "Вызволите меня, если еще можно, спасите меня!" Но они меня не слышали; голос мне изменил.
Сиверсен потом до самой смерти любила рассказывать, как я упал, а они смеялись, думали, что это так надо, с меня ведь все станется, уж попривыкли. А я лежал и лежал и не отвечал ничего. И ужас, ужас, когда они сообразили, что я упал без памяти, и я лежал как куль тряпья, прямо как куль.