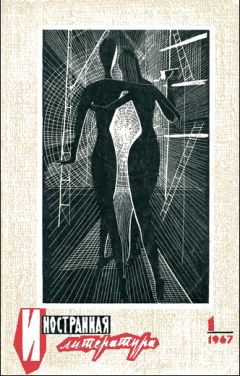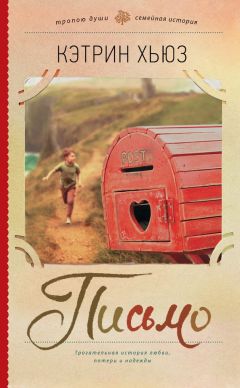Но все это представлялось Лауране весьма смутно, в лихорадочных, бессвязных видениях.
Так прошел весь октябрь.
В начале ноября, сразу за днем поминовения усопших, шел праздник победы, и, таким образом, у Лаураны оказалось четыре свободных дня. Тут он впервые открыл, что не только все беды обрушиваются на людей из-за нежелания сидеть дома, но и что именно дома лучше всего работать и с упоением перечитывать уже знакомые книги.
Утром второго ноября он отправился вместе с матерью на кладбище. Убедившись, что на могилах близких лежат заказанные ею цветы, стоят свечи, мать, как и в прошлые годы, пожелала обойти все кладбище и прочесть заупокойную молитву у могил родственников и друзей. Остановились они и возле фамильного склепа Розелло — синьора Луиза в изящном траурном платье, преклонив колени на бархатной подушечке, молилась, то и дело возводя очи к мраморной плите, на которой было высечено имя ее мужа, своей трагической смертью повергшего в безутешную скорбь родных и близких...
В центре плиты красовался портрет Рошо на прозрачной эмали. Бедняга Рошо выглядел на фотографии лет на двадцать моложе и смотрел куда-то вдаль задумчиво-печально. Синьора Луиза встала и любезно объяснила, что она выбрала именно этот портрет мужа в молодости, ибо примерно тогда они и познакомились. Она поведала о генеалогии и степени родства всех покойников, навсегда замурованных в этом склепе. Но она, живая, к несчастью, еще живая, завидует им, мертвецам, потому что жизнь ей не мила. Она тяжко вздохнула, смахнула невидимую слезу. Синьора Лаурана прочла свою молитву. Прощаясь, молодая вдова, как показалось Лауране, сжала ему руку с тайным и робким намеком и поглядела на него с мольбой во взоре. Он сразу представил себе, что кузен и любовник все ей рассказал и что она молила его о молчании. Лаурана был этим весьма смущен, ведь это подтверждало ее соучастие в преступлении.
Но его незачем было просить о молчании. Решение проводить дома все вечера, собственно, и объяснялось желанием позабыть самому и дать забыть другим, позволить Розелло обрести прежнюю уверенность и свободу действий. Впрочем, это последнее относилось и к ней, синьоре Луизе. Ведь только страх заставлял ее изображать скорбь по умершему, часами простаивать на коленях у могилы мужа, ожидая, пока чье-либо появление не позволит ей подняться. А как Лаурана заметил, группа юнцов с нетерпением дожидалась этого момента. И только потому, что, когда вдова Рошо поднималась с колен, черное, узкое платье, отнюдь не скрывавшее ее прекрасных, словно у одалисок Делакруа, форм, задиралось и на миг обнажалась соблазнительная упругая ляжка в туго натянутом чулке.
«Ну и люди», — подумал он с ревнивым презрением. В любой части света, если только край юбки приподнимается на несколько сантиметров выше колена, в радиусе тридцати метров наверняка можно обнаружить хоть одного сицилийца, исподтишка любующегося этим пикантным зрелищем.
Лаурана даже не замечал, что сам он жадно впился глазами в белевшую сквозь черный чулок ногу, и обнаружил присутствие юнцов именно потому, что и он принадлежал к той же породе.
Идя рядом с сыном и крепко опираясь на его руку, мать шепнула ему, что, пожалуй, синьора Рошо недолго останется вдовой.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что такова жизнь. И потом она молода и красива.
— А ведь ты вот больше не вышла замуж!
— Я была не очень молодой, а уж красивой меня никогда нельзя было назвать, — со вздохом сказала старуха.
Лауране стало не по себе, даже как-то противно.
«Странно, — подумал он. — Почему это на кладбище, среди мертвых, чувствуешь себя иной раз живым до неприличия. Может, это день виноват». А день и в самом деле был удивительно хорош. Теплый воздух был пропитан гнилостным и все же приятным запахом земли и корней, струился аромат розмарина, мяты, гвоздики и роз, украшавших соседние могилы богатых синьоров.
— За кого она, по-твоему, должна выйти замуж? — с раздражением спросил он.
— Конечно за своего кузена, адвоката Розелло, — ответила старуха, остановившись и посмотрев на сына в упор.
— Почему именно за него?
— Да потому, что они росли вместе, в одном доме и хорошо знают друг друга. И потом, их брак позволит объединить владения.
— Тебе это кажется вполне убедительным? Я нахожу это безнравственным, именно потому, что они росли вместе, в одном доме.
— Знаешь поговорку «всего опаснее два «к» — кумовья и кузены»? Самые хитрые амуры обычно завязываются между дальними родственниками.
— А разве между ними была любовная связь?
— Кто его знает? Давно, еще подростками, они, говорят, были влюблены друг в друга. Но это было, понятно, юношеское увлечение. Синьору канонику, рассказывают, это не понравилось, и он принял свои меры. Сейчас я уже толком не помню, но слух такой был...
— А зачем он принял меры? Раз они были влюблены, зачем было мешать их браку?
— Ты сам минуту назад сказал, что это кажется тебе безнравственным, так же думал и наш каноник.
— Я так сказал, потому что ты не говорила о любви, а оправдывала возможный брак тем, что они росли вместе, и всякими материальными соображениями. А если их связывала любовь, тогда это меняет дело.
— Для брака между кузиной и кузеном нужно разрешение церкви, значит, хоть тень греха в этом есть... По-твоему, каноник мог допустить, чтобы не совсем законная любовь расцвела под крышей его дома?! Это было бы неприличным для него, а синьор каноник — человек строгих нравов.
— А теперь?
— Что теперь?
— Если они поженятся теперь, что-нибудь изменится? Многие подумают то же, что и ты, — они, мол, давно питали друг к другу нежные чувства, еще с тех пор, как жили в доме каноника.
— Нет, это не одно и то же, теперь это будет актом милосердия... Жениться на вдове с ребенком, объединить добро и...
— Объединить добро — это акт милосердия?
— А как же? Добро тоже нуждается в милосердии.
«О боже, ну и религия!» — подумал Лаурана.
Впрочем, его мать свое поистине священное почитание добра ежедневно доказывала тем, что не позволяла выбрасывать корки, остатки обеда, гниющие фрукты.
— Жаль выбрасывать, — говорила она и съедала совершенно черствый хлеб и подгнившие груши.
Из-за этой жалости к остаткам еды, которые словно молили об одном — поскорее стать фекалиями, она рисковала схватить дизентерию.
— А вдруг эти двое, которые любили друг друга, под крышей дома дядюшки каноника, продолжали оставаться в связи и после замужества Луизы? Вдруг они в какой-то момент решили избавиться от Рошо?
— Этого не может быть! — воскликнула старуха. — Всем известно, что бедняга доктор погиб из-за аптекаря.
— А если наоборот: аптекарь погиб из-за Рошо?
— Этого не может быть, — повторила старуха.
— Хорошо, пусть так. Но допусти на момент, что я прав... Тогда это тоже был бы акт милосердия?
— Мы здесь и не такое видали, — ничуть не смутившись, ответила старуха.
Они как раз подошли к могиле аптекаря Манно, который под распростертыми ангельскими крыльями счастливо улыбался на эмалевом медальоне, довольный удачной охотой.
Остальные дни каникул Лаурана провел, пересматривая и правя черновики своих лекций по итальянской истории и литературе. В своем деле он был очень педантичным и относился к нему с любовью. Поэтому за работой он почти забыл о скверной истории, в которую невольно оказался втянутым. В те минуты, когда он об этом вспоминал, все представлялось ему далеким, точно со стороны, а само преступление по технике исполнения и частично по замыслу — скопированным с романа Грэхема Грина. Даже встреча на кладбище с синьорой Луизой и мысли, вызванные ею, вошли в привычный круг литературных реминисценций, окрашенных мрачным религиозным романтизмом.
Но когда после недолгого отдыха снова потянулись скучные дни занятий, он был однажды приятно удивлен, встретив в рейсовом автобусе вдову Рошо. Она сидела в первом ряду возле открытого окна, заложив ногу на ногу. Место рядом было свободно, и, ответив на приветствие, она с робкой, манящей улыбкой указала на него Лауране. Лаурана на мгновение заколебался, ему стало почему-то стыдно, словно, сев рядом с ней в первом ряду, он выставит напоказ свою тайну, свое влечение и одновременно отвращение. Он хотел было под благовидным предлогом отказаться и поискал взглядом в глубине автобуса кого-нибудь из приятелей, чтобы поболтать с ним в дороге. Но в автобусе сидели одни крестьяне и студенты, да и все места были заняты. Тогда он, поблагодарив ее, принял любезное приглашение. Синьора Луиза сказала, что ей повезло, что место рядом осталось свободным: будет с кем побеседовать в дороге, да и, право же, за приятным разговором куда легче переносить автобусную тряску, странное дело, но вот в машине и в поезде у нее даже голова не кружится. Потом добавила, что сегодня чудесный день, что нет ничего лучше, чем бабье лето, и стала без умолку болтать про хороший урожай, про дядюшку каноника, которому что-то нездоровится... Она перескакивала с одной темы на другую и так трещала, что у Лаураны звенело в ушах, словно от прилива крови. Вот такое же чувство бывает, когда с вершины горы сразу спускаешься в долину. Только спустился он не с горы, а из сонного царства, где его грезы неизменно прерывал звон будильника, а по утрам мать подавала жиденький кофе. Он чувствовал, что рядом с Луизой у него загорается кровь. Чем суровее и безжалостнее он осуждал ее за развращенность и ничтожество, тем неудержимее влекло его это пышное тело, зовущие губы, густые волосы, исходивший от нее еле уловимый запах постели, недавнего сна. Все это возбуждало в Лауране желание, сильное до боли.