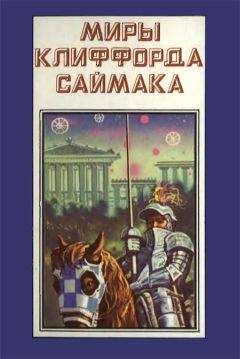и последующие за ним дни. Я хотел выяснить, какой мотив приписывают моему поступку. Я был уверен, что в газетах будет хоть какой-то намек на то, в чем меня обвиняют. Но я не раскрыл другу своих намерений. Спустя некоторое время он сообщил, что эти экземпляры раздобыть нельзя. Задуманный план не принес плодов, и я приписал неудачу отличной стратегии противника.
Между тем друг не оставлял попыток убедить меня, что мои родственники – настоящие. Потому в один прекрасный день я сказал ему:
– Если мои родственники все еще живут в Нью-Хейвене, их адреса находятся в новом справочнике. Вот список имен и предыдущих адресов моего отца, брата и дяди. Там они жили в 1900 году. Завтра, когда ты пойдешь гулять, пожалуйста, посмотри, есть ли они в справочнике за 1902 год. Люди, которые притворяются моими родственниками, делают вид, что живут там. Если они говорят правду, справочник за 1902 год подтвердит это. Тогда у меня будет надежда, что письмо, отправленное по одному из этих адресов, достигнет моих родственников и его прочитают.
На следующий день мой добрый детектив отправился в местное издательство, где можно было ознакомиться со справочниками больших городов. Вскоре после того, как он ушел, появился мой опекун. Он застал меня прогуливающимся на лужайке и предложил присесть. Мы присели. Меня распаляла мысль, что я могу убить себя до того, как наступит «переломный момент», поэтому я разговаривал с ним свободно, отвечал на вопросы, задавал свои. Мой опекун, не знавший, что я сомневался в его личности, с явным удовольствием заметил, что я снова хочу говорить. Вряд ли он радовался бы так же, если бы смог прочитать мои мысли.
Вскоре после того, как он ушел, вернулся мой друг – с сообщением, что адресá, которые я ему дал, значатся в справочнике. Эта информация не подтверждала того, что мой утренний посетитель не был полицейским. Однако она убедила меня в том, что мой настоящий брат все еще жил по старому адресу, как и в 1900 году, когда я покинул Нью-Хейвен. Мой бред ослабевал, и постепенно возвращающийся рассудок сконструировал остроумный план, который спас меня. Если бы мой разум не выздоровел в определенный момент, он погубил бы меня до того, как я обрел бы рассудок в медленном процессе выздоровления.
Через несколько часов после того, как мой личный частный детектив снабдил меня информацией, которую я так желал получить, я написал первое за два года и два месяца письмо. Письма в целом были отдельной темой. Я не осмеливался попросить чернил, поэтому писал простым карандашом. Еще один пациент, которому я доверял, по моей просьбе подписал конверт, не зная о его содержимом. Такая мера предосторожности была нужна, поскольку я думал, что люди из Секретной службы могли выяснить, что у меня есть личный детектив, и конфисковать письма, подписанные мной или им. На следующее утро мой детектив отправил письмо. Оно сохранилось у меня до сих пор, и я дорожу им столь же сильно, сколь приговоренный к смерти дорожит помилованием. Оно призвано убедить читателя в том, что порой сумасшедший человек, даже страдающий от многих маний, может думать и писать достаточно ясно. Точная копия этого самого важного письма, что я когда-либо писал, представлена ниже.
29 августа 1902 года
Дорогой Джордж!
Утром в прошлую среду со мной пришел повидаться человек, который назвался Джорджем Бирсом, работником офиса главы Научной школы Шеффилда [6] и моим братом из Нью-Хейвена, штат Коннектикут.
Возможно, сказанное им – правда, но после событий двух предыдущих лет я склонен сомневаться в правдивости всего, что мне говорят. Он сказал, что снова придет с визитом на следующей неделе, и я посылаю тебе это письмо, чтобы ты мог принести его с собой в качестве проверки. Разумеется, если ты являешься тем, кто навестил меня в среду.
Если же это не так, пожалуйста, никому не говори про это письмо, и когда твой двойник придет ко мне, я скажу ему все, что о нем думаю. Я бы написал тебе письмо подлиннее, но пока что это невозможно. Конверт подписал за меня друг – я боялся, что иначе письмо могут задержать.
Твой
Клиффорд Б.
И хотя я был в достаточной мере уверен, что это письмо дойдет до моего брата, знать наверняка я не мог. Однако я не сомневался в том, что он не отдаст его врагу, если получит. Когда я написал слова «дорогой Джордж», я чувствовал себя как ребенок, отправляющий письмо Санта-Клаусу после того, как его детскую веру в чудо разрушили. Я был так же скептически настроен и думал, что терять нечего: все может обернуться лишь на пользу. Слово «твой» полностью выражало мою любовь к родственникам – ту, на которую я был способен тогда. Я был убежден, что опозорил, а возможно – и уничтожил мою семью, поэтому не указал свою фамилию полностью.
Мысль, что скоро я смогу прикоснуться к своему старому миру, не радовала меня. Я почти не верил, что смогу восстановить былые отношения, и остатки этой веры были растоптаны утром 30 августа 1902 года, когда санитар принес мне короткое сообщение, написанное на клочке бумаге. В нем говорилось, что мой опекун придет навестить меня днем. Я думал, что это ложь. Я чувствовал, что мой брат, будь он таковым, потрудился бы написать что-то в ответ, ведь я послал ему письмо впервые за два года. Тогда мне не пришло в голову, что у него не оказалось времени; что он, должно быть, надиктовал это сообщение по телефону. Я решил, что мое письмо конфисковали. Я попросил одного из докторов поклясться на крови, что ко мне действительно придет мой брат. Он так и сделал. Но моя ненормальная подозрительность лишила всех людей в моих глазах чести, и я никому не верил.
Как обычно, днем пациентов – и меня в их числе – вывели гулять. Я бродил по лужайке и частенько посматривал на ворота в ожидании; мимо них должен был пройти мой гость. Он появился где-то через час. Сначала я заметил его на расстоянии сотни метров и, гонимый скорее любопытством, чем надеждой, пошел его встречать. «Интересно, как мне будут врать на этот раз?» – подумал я.
Приближающийся ко мне двойник моего брата был таким, каким я его запомнил. И все же он не был моим братом, даже когда я пожимал ему руку. Как только мы покончили с этой формальностью, он достал кожаную записную книжку. Я мгновенно узнал ее: она принадлежала мне: я всегда носил ее с собой, пока не заболел