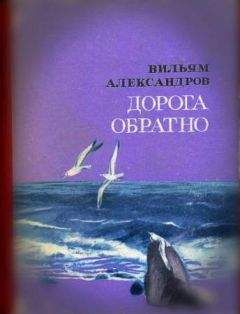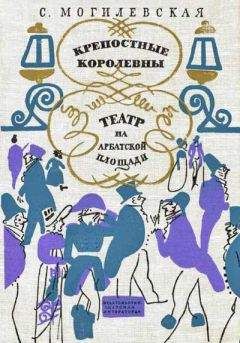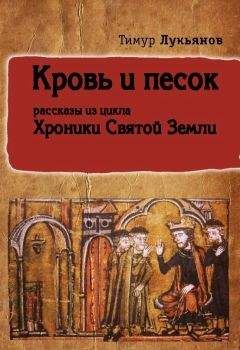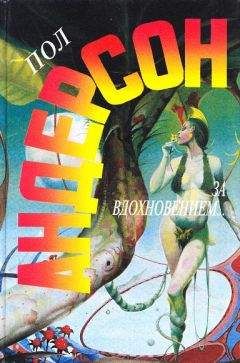— Нет, правда?
Она засмеялась.
— Тоня написала. С почты.
— Куда написала?
— В Полтаву. Я ведь оттуда приехала.
— Отчаянное ты существо!
Он повел ее в женское общежитие, договорился насчет койки на несколько дней. Потом поехали на вокзал за чемоданом.
По дороге она рассказала о себе. Сиплый был мужем ее старшей сестры. Уговорили приехать к ним в поселок. А как приехала, поняла, зачем она им понадобилась — нужна была приманка для таких вот юнцов — их Зеленый приводил. Хотела тут же уехать, но Сиплый запугал, пригрозил убить. Она знала, он может. Какое-то время терпела, подпаивала новичков, сулила счастье за картами… Потом спивались они.
А вот как тебя увидела, сердце оборвалось. Неужто и этого… Нет, думаю, не дам… Предупреждала тебя, а ты но понял… Стал ходить. Тогда решилась. Пошла рассказала все…
— Не боялась?
— Боялась. А за тебя еще больше боялась.
Она прикоснулась к его руке, и он увидел счастье в ее глазах — оттого, что живой, что рядом, что можно рукой дотронуться.
Потом они долго бродили по городу, сидели под чинарами на берегу Анхора.
А ты все писем ждешь? — вдруг спросила она.
— Нет, Марийка. Не жду больше.
— Ждешь… Я же вижу… — Она вздохнула. — Всю жизнь ждать будешь. Уж такой ты уродился, что с тобой поделаешь…
Она смотрела на воду, по которой плыли большие желтые листья, а когда подняла голову, он увидел в глазах ее слезы.
И чего я в тебе нашла? — Она вглядывалась в него, будто пыталась найти разгадку. — Бог его знает… А вот не могу, присохла… — И вдруг сказала: — Хочешь останусь? Хорошей женой тебе буду…
Он привлек к себе ее голову и вдруг почувствовал, как она задрожала вся — то ли от счастья, то ли от горя — он не знал.
Они сняли маленькую комнату недалеко от института, — с земляным полом, с крошечным оконцем, выходящим в узкий проулок между двумя высокими глиняными дувалами.
Марийка устроилась регистратором в поликлинику. И Лукьянов начал работать помощником следователя, перевелся на вечернее отделение.
Вскоре после окончания института ему дали квартиру.
Марийка сказала правду — была хорошей женой — заботливой, ласковой, чуткой. Она родила ему дочку, все заботы взяла на себя, делала все, чтобы он не чувствовал себя обремененным семьей, чтобы мог работать, заниматься своим трудным делом. Она была счастлива с ним — он видел, и это наполняло его гордостью и нежностью, давало силы. Но временами он видел: она все понимает и жалеет его. И старается изо всех сил, чтоб ему было хорошо, если уж он не может быть по-настоящему счастлив.
Он видел — она ни в чем его не винила, не корила, она ведь знала, на что шла, просто верила: пройдет время, оно залечит, зарубцует, выветрит из сердца, и тогда он вздохнет свободно. Но время шло, дочка росла, он ее любил очень, она видела и делала все, чтобы им всем было хорошо, — но главного, самого главного все-таки не было — это она понимала своим чутким сердцем, и только спрашивала молчаливо — ну, когда же, наконец, когда же?
Года три спустя после того, как поженились, она летом сказала, что хочет съездить к родным, в Полтаву, своих проведать. Она взяла отпуск, поехала и вдруг прислала письмо вижу — я в тягость тебе, а ты сказать не можешь, так ты не мучься, ни в чем ты передо мной не виноват, я ведь сама все знала, только думала — пройдет, залечу я тебя своей любовью, уж, видно, не смогла. Останусь я здесь. А ты не чувствуй себя виноватым, будь свободным, может, другая тебя утешит, пусть так оно и будет.
Он взял билет на самолет, прилетел, привез ее обратно. С тех пор они больше никогда не возвращались к этому. Только ловил на себе этот ее взгляд мучительный и мучился сам, старался загладить нежностью, добротой.
Однажды она ему сказала: «Добрый ты через меру, Дима, оттого и все горести».
Он спросил: «Разве от доброты могут быть горести?»
«Могут, Димочка, могут».
Он долго думал потом над ее словами. А она тут же почувствовала и сказала: «А ты не пытайся измениться, ничего у тебя не выйдет, такой ты есть, такого люблю, а другого мне не надо…»
Когда он получил телеграмму, хотел скрыть, но не удалось. Она прекрасно угадывала все, что происходит в его душе. Он рассказал ей все, спросил — что делать?
И она сказала: «Поезжай. Поезжай обязательно. Может, это как раз и нужно!»
Она сама проводила его к самолету и последнее, что он видел, когда улетал, были ее глаза, полные тоски и тревоги.
Эти глаза стояли сейчас перед Лукьяновым, когда он лежал в темноте, смотрел в светлый прямоугольник окна и вглядывался в свое прошлое. Сколько раз ловил он на себе этот вопрошающий взгляд, сколько раз защищался от него дочкой, работой, деланной веселостью.
… За окном бухало море. Разыгралось все-таки.
Он слушал, как, нарастая, набегали на берег волны и с грохотом разбивались, отступая назад. Он закурил. Потом зажег свет, стал ходить по комнате. И вдруг услышал тихий стук в дверь. И Нелин голос:
— Ты не спишь, Дима?
— Извини, — сказал он через дверь. — Не могу уснуть. Я сейчас перестану ходить.
— Ия никак не усну. Можно я посижу с тобой?
— Заходи.
Она вошла, зябко кутаясь в шаль, видно, не ложилась еще. Огляделась робко, будто не дома была, а в гости к нему пришла, села на стул возле стола, подняла на мгновение и тут же опустила виноватые, полные боли и нежности глаза.
— Ты прости, ради бога, никак места себе не найду. Услышала, что ты ходишь, и так мне стало…
— Хорошо, что зашла. — Он свернул постель, подвел ее к дивану, усадил.
Здесь теплее будет… Я вот тоже вес думал, вспоминал… Все, что было со мной, после того, как уехал… Господи, чего только не было!
Он опять стал мерить комнату большими шагами.
— Скажи… — она снова подняла на него полные слез глаза. — Ты хоть счастлив?
Он посмотрел в эти глаза, затуманенные слезами, полные горечи и тоски, и вдруг понял, что до сих пор, несмотря ни на что, нет для него в мире ничего роднее и ближе, чем они.
Он даже отвернулся, чтобы не выдать себя.
Ты спрашиваешь, счастлив ли я? У меня есть работа, которую я люблю. Есть жена — добрая, все понимающая. И дочь, Танечка, чудесное существо. Что еще нужно человеку?
— Сколько ей, Дима?
— Десять лет.
Как странно… — она прижала пальцы к вискам. — Все эти годы я жила, как во сне, все думала: вот проснусь и ты окажешься рядом, и все будет по-прежнему, как когда-то… Господи, ведь мы судьбой были назначены друг другу, ведь даже и там, в Сибири, когда я жила у них и не знала, где ты, что с тобой, жив ли ты, я ни на минуту, ни на секунду не допускала мысли, что смогу жить без тебя или ты — без меня. И он это знал, и родители его знали… И даже тогда, когда все это случилось, я все равно не верила, понимала, что виновата перед тобой, но знала — ты поймешь и простишь, и все ждала тебя, искала повсюду, и не верила, не верила… А вот сейчас поверила, поняла — у тебя своя дорога, у меня своя, и не сойтись им никогда. Никогда… Оттого, наверно, так больно сейчас, да?
— Да. Ты права. Именно оттого.
Он подошел к ней, опустился на коврик у ее ног, взял ее руки в свои, заглянул в глаза.
Скажи, если б я написал тогда или приехал…
Я б на крыльях к тебе полетела… И ничто, ничто не остановило бы меня…
Значит, и я перед тобой виноват, я ведь подумал, что ты забыла меня.
Он положил усталую голову ей на колени, она прижала свое лицо к его волосам, и так они сидели долго, слушая, как грохочет море там, внизу.
Поздно уже, Неля, — проговорил он, наконец, глухо, не поднимая головы.
— Да, да… Я сейчас уйду. Еще минутку так посижу и уйду…
Она ушла. А он подошел к столу и долго смотрел на фотографию, вправленную в рамку. Там, под стеклом, на фоне моря, стояли трое.
В середине она — Неля, слева ее сын, Димка, а справа, по-хозяйски положив руку ей на плечо, широко улыбаясь, сверкая белыми зубами на загорелом, красивом лице, — стоял он, Андрей Новгородцев, известный невропатолог, без пяти минут доктор медицинских наук, владелец этой дачи, вполне довольный жизнью и собой.
Утром Лукьянов сказал Неле, что сегодня, по всей вероятности, не приедет, останется в городе — у него много дел. Обещал позвонить. Он сел на автобус, проехал три остановки, сошел возле санатория «Черноморец», разыскал дежурный магазин и долго беседовал с продавцом.
Затем он вернулся на четыре остановки назад, разыскал дом Полозова.
В неопрятной, захламленной комнате, где по полу были разбросаны детские игрушки, какие-то тряпки, цветные матерчатые лоскуты, угрюмая женщина, сидя возле раскрытой швейной машины и держа на коленях девочку лет четырех, кормила ее манной кашей. Девочка есть не хотела, вырывалась, мотала головой, выплевывала кашу, а женщина с озлобленной настойчивостью впихивала ей ложку в рот, так что зубы лязгали.