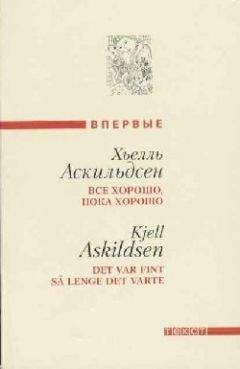В субботу вечером она укладывается рано, и ее никто не тревожит. Она не оживляется и на следующий день, в воскресенье, и Турбьерн с Кристианом снимаются с места раньше, чем собирались. Разрыв не залатан. Отъезд Турбьерна приносит ей облегчение, но как же муторно на душе! Ингрид обнаруживает себя за столом на кухне, плачущей - такого не случалось с ней давным-давно. Ей отвратительно и собственное бессилие, и что брошенка она все неправильно, все наперекосяк. А ей тридцать девять лет. И куда теперь прожитые годы - коту под хвост? Кто-то идет на кухню, Ингрид смахивает слезы, но без толку: Унни застывает на пороге, смотрит, молчит. Потом подходит к матери, гладит ее по волосам и говорит, точно ей все известно:
- Мам, не плачь.
Она и не плачет, она замерла не дыша: гладь, Унни, гладь, так приятно! Вдруг она пугается: Унни-то небось решила, что я разнюнилась из-за отъезда Турбьерна, не надо ей так думать, это унизительно для меня.
- Мужики такие дураки, - говорит Ингрид.
Унни понимает, что вопросов задавать нельзя - мать не ответит, ясное дело. А жаль, очень. Унни вдруг остро чувствует, как же много тайн хранят друг от друга родители и дети, хуже того, доходит до нее внезапно, лояльность между родителями держится на скрытности перед детьми.
Думая об этом, она краем глаза замечает силуэт на изгибе дороги. Не отдавая в том отчета, она говорит, продолжая гладить мать по голове:
- Там какой-то мужчина.
Мать реагирует на удивление бурно, как будто услышала что-то важное. Унни чувствует, как тело, к которому она прильнула, вдруг напрягается и цепенеет.
- Что стряслось? - спрашивает Унни.
Ингрид встает, подходит к окну. Пусть увидит меня, думает она. Тем более Унни здесь, подбадривает она себя, но чувствует себя одной-одинешенькой. Она рассматривает его в упор, но разобрать, смотрит ли он в на нее, так и не может.
- Что-нибудь случилось? - говорит Унни.
- Ничего.
- Ты странно себя ведешь.
- Странно? Что странного?
Унни не отвечает, глядит мимо матери, на мужчину, наполовину скрытого деревьями. То, что мать так внаглую разглядывает его, не кажется ей нормальным.
Ингрид хочет продемонстрировать, что заметила его, она чувствует себя дуэлянтом у барьера, она и думать забыла плакать.
- Ты его знаешь? - спрашивает она, спеша упредить вопрос Унни.
- Нет.
В этот миг он трогается с места, выходит из-за деревьев и идет вдоль колеи прямо на нее - Ингрид непроизвольно отшатывается. Он проходит между домом и сараем и, прежде чем скрыться за поворотом, смотрит на нее слишком, как ей кажется, долго.
Она не решается сразу обернуться, она не уверена, какое у нее выражение лица.
- Теперь этой дорогой почти никто не ходит, - говорит она как может непринужденно, подходит к мойке и споласкивает руки.
* * *
Прошло два дня после побывки Турбьерна. Утро, Ингрид сидит и читает глянцевый журнал. У окна притулился отец, само безучастие. С утра лил дождь, но теперь на небе наметился просвет. Отец вперился в окно и застыл так, думая о своем. Он сидит так давно. Ингрид откладывает журнал - спроси ее, что она там читала, не вспомнит. Вдруг у нее стискивает сердце от невыносимого одиночества, ее захлестывает чувство полнейшей, бесповоротной покинутости, она цепенеет.
Потом вскакивает, чтобы сбросить с себя этот ужас - вынести его невозможно.
* * *
Вечер следующего дня, она пытается заснуть. Непонятно почему, в голову лезет только что прочитанное: что есть такие птицы, которые гнездятся на узеньких выступах скал, и, чтобы яйца не скатывались оттуда, они у этих птиц в форме кегли. В комнате мрак, но она ясно видит вздымающуюся из моря отвесную скалу, а на ней едва стоит коричневая птица и смотрит на яйцо, похожее на кеглю. Внезапно Ингрид охватывают одиночество и страх. Она щелкает ночник - нет, не то. Вылезает из кровати, идет в гостиную, включает там полную иллюминацию и радио - долго еще оно будет шуршать? Времени лишь начало двенадцатого. Наконец звук прорезывается, страшное позади. Но остается заноза в сердце: тревожно, а что делать - непонятно.
Она вынесла белый стул из садовой мебели и устроилась на солнышке перед домом, здесь тихо и тепло. Звонил Турбьерн с сообщением, что не приедет на выходные, странно, но это его дело. Она нежится на солнышке и не печалится из-за того, что не увидит его. И не радуется, ей все равно. А вот солнышко приятно, оно ласкает кожу. Она откидывается на спинку стула, подставляет лицо солнцу и не следит за мыслями, они возникают и пропадают по собственной прихоти. Хорошо! Она чувствует себя в безопасности и покое. Но внезапно у нее темнеет в глазах, будто померкло солнце, хотя вот оно, блестит, а у Ингрид холод в душе и мурашки, у нее немеют ноги и свербит в голове: Господи, какая бессмыслица! Она непроизвольно вспоминает птицу, которая мается со своим яйцом на отвесной скале, а кругом - вода, без конца и без края.
У Ингрид ломит шею, надо размяться. Она вскакивает, с большой поспешностью доходит до поля, которое они тоже сдали, немедля поворачивает назад и столь же суетливо торопится обратно, к дому; но на изгибе дороги наталкивается на того мужчину, он рисует за мольбертом; вот и объяснение она чувствует досаду, хотя и облегчение, конечно, тоже, но больше досаду оказывается, он ходит сюда просто потому, что ему понравился вид.
Она снова устраивается на стуле перед домом, на душе вроде полегче. Надо же, думает она - художник, совсем не похож. А я-то решила... да нет, ничего я не решила и не думала, не всерьез же, что за глупости.
Она сиднем сидит на белом стуле, хотя ее так и подмывает юркнуть в дом - исподтишка подсмотреть за художником. Ей вдруг вспоминается родительский городской дом - там висели два шпионских зеркала, и можно было, ничем не рискуя, следить за всем, что творится на улице: в одном зеркале отражалось кухонное окно, а во втором - окно в гостиной, и изображение было совершенно ясное. Именно так она насмотрелась в детстве много чудного. Однажды она видела, как фру Мартинсен, жившая через два дома от них, билась головой о стену. Она раз за разом тюкалась лбом в стену своего дома, она была старухой лет пятидесяти - Ингрид была потрясена: такая приятная, дружелюбная, наконец, такая старая женщина, и на тебе! Стоя на одном месте, фру Мартинсен самое малое пятнадцать раз долбанула головой в стену; если б Ингрид не видела этого своими глазами, ни за чтоб не поверила.
Она встает, незаметно крадется к другому входу, летнему. Через гостиную она проходит в кухню, снимает зеркало со стены над мойкой, прислоняет его к хлебнице - теперь она может следить за ним, стоя у плиты, незаметно. Она подглядывает - ничего интересного, тем более расстояние между ними как будто увеличилось из-за зеркала. Что-то ты, красавица, мягко говоря, глупишь, думает она. Решительно усаживается за стол и смотрит на него в упор.
Пойти, что ли, прогуляться до дубравы, думает она, я ж не виновата, что он там стоит. Ладно, себе можно признаться, чего мне туда приспичило. Но он-то об этом не догадывается.
Она выходит через пристройку, запирает дверь, прячет ключ в условное место. И бредет в сторону художника, с каждым шагом все отчетливее понимая, что так себя не ведут. Она идет, потупив взор, но, поравнявшись с ним, поднимает глаза, ловит его взгляд, улыбается. Он откликается рассеянной улыбкой. Она минует его. Можно подумать, мне нельзя здесь ходить, досадует она, потом мысль бежит дальше: да еще эти месячные. Колея уводит ее в дубраву, экая я все-таки вертихвостка, думает она.
Она не забирается далеко вглубь, а через сотню метров присаживается на камень и думает, что этот художник выглядит точно так, как ей хотелось бы, чтобы он выглядел.
Ей не сидится. Она скоренько наламывает березовый веник - ей же нужно алиби - и бредет обратно.
Она идет прямо на его спину, идет медленно и буравит его взглядом, он оборачивается, тогда она скользит глазами по его глазам, потом по листу на мольберте: в правом углу нечто зелено-золотистое.
Войдя в дом, она отшвыривает березовый веник. Садится к столу на кухне, смотрит на мужчину у дороги и отдается грезам самого откровенного свойства. В следующий раз, думает она, я не просто пройду мимо, я уведу тебя за собой, тебя всего, каждый сантиметр твоего тела.
Скрипит лестница. Она вскакивает, и, когда отец отворяет дверь, она собранна и вменяема.
Но ночью, когда дом засыпает, она уединяется у себя и разыгрывает наяву давешний сон. Она лежит голая, раздвинув согнутые в коленях ноги и запустив указательный палец во влажные женские недра. Вот, чудится ей, к ней подходит мужчина, останавливается, он хочет ее, у него нет лица, только тело, руки и налитой ствол - он рвется в бой, этот крепыш-сладострастник, расчехляется и растомленно приближается к ней на пару с нежным, шаловливым пальчиком, чтобы раскочегарить ее, и он заводит ее, неуклонно, но неспешно, она согласна - пусть так, но чтоб все сполна, его орех трет ее ягодку, она на взлете, еще, еще чуть-чуть и ее пронзит нестерпимое, сладостное... о... о... вот сейчас... петушок твой, голубчик, огурчик... все!