в своем гнезде из красильника Ив вместе с сердцем своим и страданием.
И будь он хоть единственным человеком, еще дышащим на лице земли, его было бы довольно, чтобы разбить бесконечную цепь пожирающих и пожираемых чудищ: он мог ее разбить; одно малейшее поползновение любви ее уже разбивало. В жутком миропорядке вершила любовь благодатный переворот. Это таинство Христово и тех, кто подражает Христу. «Для этого ты избран… Я избрал тебя, чтобы все это расстроить…» Мальчик произнес вслух: «Ведь это я сам говорю» (и прижал обе ладони к повлажневшему лицу). С собой мы всегда разговариваем сами… И он попытался ни о чем больше не думать. Высоко-высоко в лазури, на юге, взлетела стая витютней, и он следил за ними взглядом, покуда не потерял из виду. «Ты знаешь, кто Я, – говорил внутренний голос, – Я, избравший тебя…» Ив склонился лицом до самых ног, зачерпнул горсть песка и швырнул ее в пустоту; в рассеянье твердил он: «Нет! нет! нет!»
«Я избрал тебя, и отделил от других, и отметил тебя знаком Моим».
Ив стиснул кулаки. «Это бред, – повторял он, – да я же и вина выпил… Оставьте меня, мне ничего не надо. Я мальчишка шестнадцати лет, подобный всем моим сверстникам. Я смогу убежать от своего одиночества».
«А Я всегда вновь создам его вокруг тебя».
– Разве я не свободен? Я свободен! – крикнул он.
Он встал, и тень его шевелилась на папоротниках.
«Ты свободен нести в мире сердце, сотворенное Мной не для мира сего; свободен искать на земле пищи, не тебе предназначенной; свободен желать утоления голода, который ничего не найдет по мере своей: все тварное не утешит тебя, и ты будешь метаться от одного творения к другому…»
«Я говорю сам с собой, – твердил мальчик. – Я такой же, как все; я всем подобен».
В ушах у него свистело; захотелось спать – он улегся на песок и подложил согнутую руку под голову. Жужжанье шмеля окружило его, потом удалилось и затерялось в небе. Восточный ветер принес запах хлебопечек и лесопилок. Он закрыл глаза. Мухи яростно налетели на его лицо, на вкус соленое, и он сонным движением отгонял их. Вечерние кузнечики не стеснялись засыпающего мальчика; белка спустилась с ближней сосны напиться из ручейка и пробежала совсем рядом с человеческим телом. Муравей – быть может, тот самый, которого он спас, – забрался ему на голень; за ним поползли и другие. Сколько времени нужно пролежать неподвижно, чтобы они дерзнули его обгладывать?
Его разбудила прохлада от ручейка. Он вышел из зарослей. Смола запачкала куртку. Он вытащил из волос запутавшиеся сосновые иглы. Туман с лугов понемногу захватывал лес, и был этот туман похож на дыхание живого существа в холода. Повернув в аллею, Ив столкнулся с матерью: она читала обычные молитвы. На парадное платье Бланш накинула старую лиловую шаль. Кофточку украшали кружева «совершенно прекрасные», как она обыкновенно говорила. Длинная золотая цепочка с морскими жемчужинами была приколота брошью: огромным вензелем «Б» и «Ф».
– Ты откуда? Мы тебя искали… Совсем не вежливо.
Он взял маму за руку, прижался к ней.
– Я боюсь людей, – сказал он.
– Боишься Дюссоля? Казавьейя? Ты с ума сошел, дурачок мой.
– Мамочка, они людоеды.
– Собственно, – сказала она задумчиво, – никаких объедков они не оставили.
– Ты думаешь, через десять лет от бедного Жан-Луи хоть что-то останется? Дюссоль его потихоньку сожрет…
– Все чепуху болтаешь! – Но в голосе Бланш была нежность. – Видишь ли, дорогой мой… Я очень спешу устроить Жан-Луи как следует. Его дом будет вашим домом; как только он встанет на ноги, я смогу спокойно отойти…
– Что ты, мамочка!
– Ну вот, видишь? Я и стоять уже не могу…
Она тяжело опустилась на скамейку под старым дубом. Ив заметил: она запустила руку под кофточку.
– Ты же знаешь: это не злокачественно, Арнозан сто раз тебе объяснял…
– Да, говорят, что так… А вот еще ревматизм в сердце… Вы не знаете, что со мной бывает. Приготовься к этой мысли, маленький мой: нужно приготовиться… Когда-нибудь все равно…
Он снова прижался к матери, взял в обе ладони крупное сморщенное лицо.
– Ты с нами, – сказал он. – Ты всегда с нами.
Она почувствовала, как он вздрогнул. Спросила, не холодно ли ему, и укрыла лиловой шалью. Они вместе завернулись в старое шерстяное полотнище.
– Мамочка, а ведь у тебя уже была эта шаль, когда я ходил к первому причастию… и пахнет она все так же…
– Ее привезла бабушка из Сали.
Пожалуй, в последний раз, как маленький мальчик, Ив прижался к матери; она была жива, а с минуты на минуту могла исчезнуть. Юра будет течь все так же во веки веков. И до конца света облако с этого луга будет подниматься навстречу первой звезде.
– Ив, мой маленький, ты столько всего знаешь – и я хотела бы вот что знать: на небе думают о тех, кого оставили на земле? О, я верю в это! Верю! – убежденно говорила она. – Я не допускаю никаких мыслей против вероучения – но как мне вообразить мир, где вы не останетесь для меня всем, дорогие мои?
Тогда Ив уверил ее, что всякая любовь исполнится в Любови единой; что всякая ласка будет облегчена и очищена от всего, что ее тяготит и сквернит… И сам удивлялся словам, которые произносил. Мать тихонько вздохнула:
– Да ни один из вас не погибнет!
Они встали; Ив весь был в смятенье, а пожилая женщина опиралась на его руку.
– Я всегда говорю: вы моего Ива не знаете; он хмурится, хмурится, а сам из всех детей моих ближе всех к Богу…
– Нет, мамочка! Не говори так! Нет!
Он вдруг отстранился от нее.
– Что с тобой вдруг? Нет, что это с ним?
Он шел впереди, засунув руки в карманы и подняв плечи; она, задыхаясь, едва поспевала за ним.
После ужина усталая госпожа Фронтенак поднялась к себе в спальню. Ночь была ясная, поэтому остальные члены семейства гуляли по парку, но уже не все вместе: жизнь начала делить тесный мальчишеский кружок. Жан-Луи встретил Ива у входа в аллею, и они не остановились. Старшему хотелось побыть одному, чтобы думать о своем счастье; у него уже не было чувства неудачи, падения; некоторые замечания Дюссоля, касавшиеся рабочих, пробудили в молодом человеке еще смутные покамест планы: он будет делать добро вопреки своему компаньону; он будет способствовать становлению христианского порядка в обществе. Что бы ни думал про это Ив,




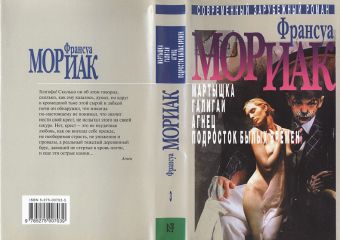
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/133897/133897.jpg)