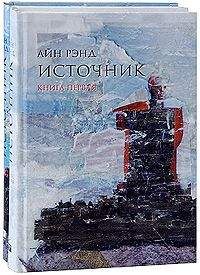Один раз он отважился спросить Винанда:
— Гейл, почему ты не пойдешь на переговоры? По меньшей мере, почему не встретиться с ними?
— Заткнись.
— Но может ведь быть какая-то доля истины на их стороне. Они газетчики. Ты знаешь, что они говорят: свобода прессы…
Тогда и последовал взрыв ярости, которого он ждал последние дни и который, казалось, его миновал: голубые зрачки вспыхнули белым пламенем, исторгнув слепящую молнию, черты лица еще больше заострились, дрожь дошла до кончиков пальцев. На миг Скаррет увидел то, чего никогда раньше не замечал: Винанд подавил вспышку, подавил без единого звука, но и без облегчения. От усилия пот капельками выступил на впалых висках, руки на краю стола сжались в кулаки.
— Альва, если бы я тогда не сидел целую неделю на ступеньках «Газеты», где была бы та пресса, свободы которой они так жаждут?
Снаружи и внутри здания дежурили полицейские, это что-то давало, но не много. Однажды ночью в главный подъезд бросили бутыль с кислотой, она разъела вывеску и оставила безобразные, как язвы, пятна на стене. В подшипники одного из печатных станков бросили песок и вывели его из строя. Разгромили продовольственный магазин, владелец которого давал рекламу в «Знамени». В результате многие мелкие торговцы перестали помещать рекламу в газете. Ломали машины доставки. Один водитель был убит. Но бастующий профсоюз выступил против актов насилия — союз не подстрекал к ним, и большинство его членов не имели об этом никакого представления. «Новые рубежи» глухо возражали против достойных сожаления эксцессов, но тут же относили их к «спонтанным взрывам оправданного народного гнева».
От имени группы, называвшей себя бизнесменами-либералами, Гомер Слоттерн известил Винанда о разрыве контракта на рекламу. «Вы можете предъявить нам иск, однако мы полагаем, что имеем законное право на разрыв отношений. Мы поместили свою рекламу в газете с достойной репутацией, а не в бульварном листке, опозорившем себя в глазах общества. Нас пикетируют из-за связи с вами, мы несем убытки. Вас никто не читает». В эту группу входило большинство самых состоятельных рекламодателей «Знамени».
Гейл Винанд стоял у окна кабинета и смотрел на город.
«Я поддерживал забастовки, когда это было опасно. Всю свою жизнь я боролся с Гейлом Винандом. И никак не ожидал, что наступит день и дело повернется так, что я должен буду заявить, как заявляю сейчас, что я на стороне Гейла Винанда», — писал в «Кроникл» Остин Хэллер.
Винанд послал ему записку: «Черт побери, я не просил защищать меня. Г.В.».
«Новые рубежи» отозвались об Остине Хэллере как о реакционере, продавшемся большому бизнесу. Интеллектуальные светские дамы объявили Остина Хэллера старомодным.
Гейл Винанд стоял за конторкой и, как и прежде, писал передовицы. Сохранившийся штат не замечал в нем перемен: ни спешки, ни гневных всплесков. Никто не видел, что в его действиях появилось новое: он отправлялся в печатный цех и подолгу смотрел на исторгавшие пар гиганты и слушал их громыхание. Он подбирал свинцовую матрицу с пола наборного цеха, рассеянно вертел ее в пальцах, как ценный слиток, и бережно возвращал на верстак. Он стал бережлив во всем и, не замечая этого, непроизвольно подбирал карандаши и всякую мелочь. Полчаса он потратил, не слыша, как надрываются телефоны, на ремонт пишущей машинки. Дело было не в экономии, он подписывал счета, не обращая внимания на суммы. Скаррет боялся даже подумать о каждодневных расходах. Все дело было в том, что он лелеял каждую вещь в этом здании, здесь все до последней скрепки принадлежало ему, потому что принадлежало «Знамени».
В конце каждого дня он звонил Доминик. «Все идет отлично. Все под контролем. Не верь паникерам… Какого черта! Не хочу я говорить о газете. Лучше расскажи мне, как выглядит сад… Сегодня ты ходила купаться? Как озеро?.. Какое на тебе платье? Не забудь сегодня включить радио в восемь — передают твой любимый Второй концерт Рахманинова… Конечно, у меня есть время, чтобы быть в курсе всего… Ладно, ладно, как я могу провести бывшую журналистку, конечно, я посмотрел программу радиопередач. У нас достаточно сотрудников, но не на всех можно положиться, за ними надо присматривать, а у меня как раз выдалась минутка… Ни в коем случае не приезжай в город. Ты мне обещала… До свидания, дорогая». Он повесил трубку, но продолжал, улыбаясь, смотреть на телефон. Казалось, загородный дом был где-то на другом континенте и до него невозможно было добраться. От этого возникало ощущение осажденной крепости, и ему это нравилось — не сам факт, а ощущение. И лицом он напоминал какого-то отдаленного предка — из тех, что сражались на стенах замков.
Однажды вечером он отправился в ресторан через улицу, он давно уже толком не обедал. Было еще светло, когда он возвращался, — приглушенные лучи заходящего летнего солнца уютно вытягивались в теплом воздухе и, казалось, медлили с уходом, хотя
xtt.
солнце уже закатилось. От этого небо светилось свежестью, но улицы казались грязными. В углах старых зданий высвечивались коричневые и густо-оранжевые пятна. Перед входом в редакцию прохаживались пикетчики. Их было восемь, и они двигались по вытянутой окружности. Он узнал одного юношу, репортера уголовной хроники, других ему не приходилось видеть. Они несли плакаты: «Тухи, Хардинг, Аллен, Фальк», «Свободу прессе!», «Гейл Винанд попирает права человека».
Его внимание привлекла одна женщина. Ее бедра начинались от лодыжек, плоть подушечками выпирала из-под тесных застежек туфель. Она вся была квадратной — квадратные плечи, квадратная фигура, на крупное тело было накинуто длинное пальто из дешевого коричневого твида. Но руки были маленькими, белыми — из таких вечно все валится. Рот узкой прорезью, без губ, она переваливалась на ходу с ноги на ногу, но двигалась с поразительной энергией. Она готова была бросить вызов всему миру. У нее было такое злое и хитрое выражение лица, словно она только и ждала — давай, тронь! Винанд был уверен, что она у него никогда не работала, ее никто не взял бы, вряд ли се можно было обучить чтению, и ее вид определенно говорил: и слава Богу, что не надо забивать голову всякой дурью. Она несла плакат: «Мы требуем…»
Он вспомнил долгие ночи, когда в первые годы ему приходилось спать на диване в старом здании редакции, потому что нужно было расплачиваться за новое оборудование, а газета должна была появляться на улицах рано, опережая конкурентов. Он начал кашлять кровью, но не обратился к врачам, хорошо, что все обошлось, — это был результат истощения.
Он поспешил в здание. Станки работали. Он постоял минуту прислушиваясь.
Ночью в здании было тихо. Звуки отлетали, здание пустело и от этого казалось больше. Неяркий свет горел в проходах, у открытых дверей, на перекрестках коридоров. Где-то монотонно, как капли воды из крана, постукивала одинокая пишущая машинка. Винанд шел по пустым холлам и думал: люди охотно работали на него, когда он помогал протащить на выборах в муниципалитет заведомых мошенников, рекламировал злачные места, сплетнями и клеветой подрывал репутации, сострадал матерям гангстеров. Талантливые, уважаемые люди охотно нанимались к нему. Сейчас впервые за всю свою карьеру он был честен. Он пустился в величайший крестовый
поход — и с кем? С пьяницами, бродягами, мошенниками, жалкими отбросами, у которых не хватало сил даже уволиться. Были ли они лучше тех, что бросили его?
Луч солнца уперся в квадратную хрустальную чернильницу у него на столе. Винанд мечтательно представил себе зеленую лужайку, белые одежды, зеленую траву под рукой, глоток прохладного напитка. Он оторвал взгляд от игры света и продолжил писать. Шла вторая неделя забастовки. Он закрылся у себя и велел не беспокоить его, ему надо было закончить статью, и он был рад поводу хотя бы на час не видеть того, что происходит в здании.
Дверь открылась без предупреждения, и в кабинет вошла Доминик. С самой их свадьбы ей было не разрешено появляться в редакции «Знамени».
Он встал, не сказав ни слова, в его движениях не было протеста. На ней был полотняный костюм цвета коралла, за ней, казалось, виднелось озеро, и, отражаясь от его поверхности, лучи солнца падали на складки ее одежды. Она сказала:
— Гейл, я пришла, чтобы получить прежнюю работу в «Знамени».
Он стоял и молча смотрел на нее, потом улыбнулся — это была улыбка выздоравливающего.
Он повернулся к столу, собрал исписанные листы и, передавая их ей, сказал:
— Отнеси это в заднюю комнату, захвати там информацию с телетайпа и принеси мне. Затем отправляйся в распоряжение Мэннинга, в отдел городской жизни.
Невозможное, недоступное ни слову, ни жесту, ни взгляду единение двух существ, полное понимание свершилось в акте простой передачи стопки бумаги из рук в руки. Они не коснулись друг друга даже пальцами. Она повернулась и вышла.
![Айн (http://marsexxx.com, <a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="325f534041574a4a4a724b531c4047">[email protected]</a>) - Источник](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)