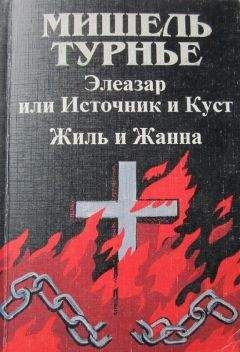Меня удивило, что, покуда он передо мной распинался, оба рабочих, словно не видя и не слыша нас, продолжали с полной невозмутимостью проделывать свои загадочные манипуляции. Казалось, они просто играют с картонными трубочками, палочками, разноцветными порошками, будто это для них забава, развлечение. Впрочем, не является ли сам по себе фейерверк символом ненужной роскоши, богатства, которые улетучиваются ради нескольких минут удовольствия?
- А как насчет безопасности? - спросил я у выхода. - Вы не боитесь несчастных случаев?
- Несчастных случаев? Никогда такого не было! За все время существования Ружьери не произошло ни единого случайного взрыва. Приняты все меры предосторожности. Наша система безопасности работает безотказно. Разве что... ну, не знаю... кто-то по злому умыслу или с целью самоубийства... не знаю.
Я шел довольный по улицам городка и размышлял. Почему китайцам, которые изобрели порох, никогда не приходило в голову сделать из него орудие убийства? Понадобилось время, чтобы у европейцев возникла дьявольская идея огнестрельного оружия. Я вспомнил памятник в городе Фрайбург-им-Брайсгау немецкому бенедиктинцу Бертольду Шварцу, разработавшему в ХIV веке производство артиллерийского пороха. Монах... немец... с фамилией, означающей "Черный"... не слишком ли нарочито?
Я покривил бы душой, если б сказал, что в последующие дни много работал. Все мое внимание было поглощено площадкой для игры в шары, где утром и вечером под платанами собиралась крикливая компания, в своих непрерывных перебранках соблюдавшая, однако, некий словесный ритуал. Я заметил, что на эти сборища как на торжественные переговоры с каким-нибудь вождем африканского племени не допускались женщины и дети. Может, игра в шары - это все, что осталось от древних народных собраний, выражавших душу общины? Впрочем, жара тоже не вдохновляла меня ни на дальнейшие социокультурные размышления, ни на серьезное отношение к рукописи. Как моему издателю пришло в голову отправить меня работать сюда в разгар лета? Сиеста у меня теперь затягивалась чуть ли не до вечера, и я понимал, что грядет день, когда мне потребуются огромные усилия, чтобы встать к началу первой партии и к первому аперитиву. От этой жалкой участи меня спасло неожиданное и страшное событие.
Почтенный старик с лицом римского императора нацелился на шары, сгруппированные вокруг одного маленького шарика.
- Сейчас врежет, - пробасил мой сосед, важно кивая головой.
Шар подлетел к цели, описав красивую дугу, и в тот момент, когда он ударился о другие шары, воздух сотряс удар грома, спугнувший тучи воробьев, дремавших на ветвях платанов. Потом небо над фабрикой запылало. Начался фейерверк, но хаотичный, безумный. Яркие каскады, романские свечки, мельничные крылья, солнца, гирлянды превратились в пылающую мешанину и потонули в адской неразберихе. Hic et nunc. Я вспомнил слова Каполини. Это был взрыв здесь и сейчас, не отсроченный во времени и не перемещенный в пространстве, та самая катастрофа, которой не должно было случиться никогда.
Люди уже бежали к фабрике. Машины останавливались. Жители выскакивали из домов. Торговцы бросились закрывать лавки. Горожане, настолько привыкшие к фейерверкам Ружьери, что не обращали внимания даже на самые оглушительные, мгновенно сообразили, что на сей раз это отнюдь не безобидная демонстрация пиротехнического искусства, и, поскольку все рабочие Ружьери были из местных, город охватила паника.
Я последовал за толпой. Жандармы пытались удержать людей за территорией фабрики. Уже не было ни грохота, ни огня, а только едкие клубы дыма в бледных отсветах. Туда-сюда сновали пожарники, толпа сгрудилась вокруг носилок, которые еле-еле удалось вынести. Я искал глазами Каполини. Согласится ли он теперь со мной поговорить? Не будет ли считать меня залетной птицей, принесшей несчастье его фабрике? В конце концов я вернулся домой с ощущением, что вмешиваюсь в то, что меня не касается.
На следующий день Сидони принесла первые новости. Погибли двое рабочих из той мастерской, где произошел взрыв. Более десятка человек получили серьезные ожоги. О причинах катастрофы не известно ровным счетом ничего. Как сказал мне Каполини, этого случиться не могло... И тем не менее случилось. Фабрика временно закрылась, хотя больших разрушений не было. Я узнал имена погибших: Жиль Жербуа и Анж Креве. Первому было пятьдесят два года, отец троих детей. Второму - сорок, холостяк. Оба местные. Их фотографии мелькали на первых страницах газет рядом с фотографией Каполини, твердившего, что технические причины аварии исключены, и следовательно... следовательно... Читателю его сумбурных заявлений оставалось только пристально вглядываться в эти лица: одно - тяжелое, упрямое, сонное, уже одутловатое, другое - узкое, тревожное, замкнутое. Знали эти двое, что произошло, или умерли удивленные и растерянные, так ничего и не поняв? Я помнил, хотя и не вполне точно, высказывания Каполини во время моего посещения. Несчастный случай невозможен... Разве что кто-то по злому умыслу или с целью самоубийства... Абсурд! Как в подобных обстоятельствах подозревать преступление или самоубийство? Я снова и снова вопрошал газетные фотографии, нечеткие, плохо пропечатанные. В памяти всплыли двое рабочих, поглощенных смешными манипуляциями, покуда Каполини произносил речь. Странной парочкой были эти Жербуа и Креве! У меня возникло желание пойти в редакцию и попросить разрешения взглянуть на оригиналы фотографий.
Вечером я потягивал аперитив в кафе на площади. Завсегдатаи за стойкой галдели все разом, к тому же из-за провансальского диалекта мой северный слух улавливал далеко не все. Судя по тому, что погибших называли "наш Жербуа" и "наш Креве", многие, видимо, знали их лично. Некоторые даже говорили "малыш Креве". Прозвище удачно дополняло его образ и вполне вязалось с запомнившимся мне тонким замученным личиком.
- Вот уж не везло парню, так не везло. С ним вечно всякие неприятности случались, и рано или поздно это должно было плохо кончиться.
Похоже, что компания, внимавшая категоричному оратору, с ним полностью соглашалась. Но о ком он говорил? О Жербуа или о Креве? Я сгорал от любопытства, но не решался вмешаться в разговор из-за своего столичного вида и "писклявого выговора". Накануне, на месте аварии, я точно так же почувствовал, что совершаю бестактность. Раздосадованный на себя и на остальных, я ретировался.
На следующий день я расспросил Сидони о пострадавших. Ничего особенного я не выведал, кроме того, что Креве был "так себе", где только не работал, жил совсем один в списанном фургоне на выезде из города. Зато она очень уважительно отзывалась о Жербуа, порядочном человеке, отце семейства, и называла его жену "славной девочкой". Больше я ничего не добился.
Некоторое время спустя, проходя по улице, я заметил в скромной витрине развернутые страницы "Дофине либере". Оказалось, это местный филиал газеты. Я вошел и представился писателем из Парижа, приехавшим осветить события в Провансе. В сущности, даже не соврал. Меня интересовала катастрофа на Ружьери и, в частности, ее жертвы. Секретарь редакции вытащил для меня толстое досье. Там имелась фотография фургона, где жил Креве, но, по словам секретаря, фургон уже должны были куда-то увезти. В анкете Креве сообщалось, что, будучи внебрачным ребенком некоей мадемуазель Креве, скончавшейся, когда ему исполнилось всего двенадцать лет, он получил, с позволения сказать, воспитание в приюте города Авиньон, откуда неоднократно убегал и куда затем водворялся под конвоем; так продолжалось вплоть до того дня, когда подошел срок военной службы и его послали в Алжир. Потом занимался чем придется: собирал оливки и лаванду, стриг овец, чинил машины, был каменщиком, землекопом, а то и вовсе сидел без работы или в тюрьме за мелкие провинности. Я в общих чертах записал историю этого горемыки. Что же касается Жербуа, то, помимо адреса, я узнал, что его всюду преследовали несчастья - видимо, именно его имел в виду завсегдатай кафе. В самом деле, этот тихоня словно притягивал к себе производственные аварии. В 1955 году, на стройке многоэтажного дома, кран поднимал груз черепицы, который упал прямо на Жербуа и сломал ему плечо. В 1958-м, во время строительства дорожного туннеля в Перн-ле-Фонтен, он пострадал от взрыва в шахте. В 1963-м на него наехал грузовик, несшийся на страшной скорости по спуску от поселка Горд. Через год, когда в городе подстригали кроны платанов, у пилы оборвалась цепь - она соскочила и изуродовала ему лицо. В 1967 году, при ремонте 542-го шоссе, опрокинулся чан с раскаленным асфальтом и обжег ему ноги. В 1970-м ему в глаза попал медный купорос, которым опрыскивали виноградники. Когда Каполини нанимал Жербуа на фабрику, он наверняка не подозревал об этой цепи несчастий. Я вспомнил знаменитый вопрос, который суеверный Мазарини непременно задавал, когда ему рекомендовали какого-нибудь человека на ответственный пост: "Он счастлив?", что означало " Он удачлив?".