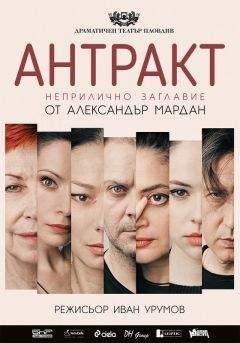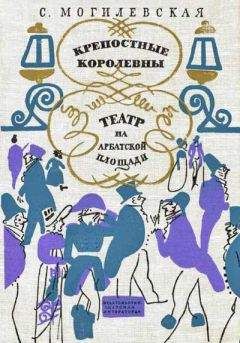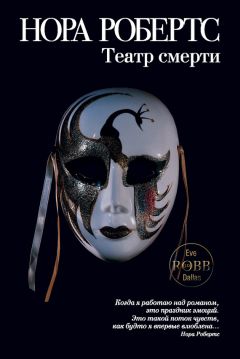Курьерша привстала со стула и положила на стол смятые бумажки денег. Бояринов аккуратно свернул рубли и отдал их курьерше.
— Верните это Семену Григорьевичу.
— Нет, нет, он велел… Особо наказал… Обязательно заплатить…
Жестом поднятой руки Бояринов оборвал скороговорку курьерши.
— Это мой подарок министру. А за подарки деньги не берут.
С текстом автографа помощнику министра было тоже не просто. Бояринов знал его давно, но впечатление о нем было смутно, раздробленное. А поэтому на титульном листе альманаха написал размашисто, разборчиво: «Уважаемому Семену Григорьевичу — с добрыми чувствами». И тут же подумал: «Может пригодится. Ведь не зря в одной из своих мемуарных записей президент Рузвельт признавался, что в жизни его были случаи, когда некоторые особо сложные президентские вопросы с успехом решал его помощник… И президент ему доверял…»
— И это — подарок? — комкая в ладони смятые рубли, неуверенно спросила курьерша.
— Да! — твердо ответил Бояринов. — И это подарок. Так и скажите Семену Григорьевичу.
Бояринов аккуратно завернул книги в новенькую, еще пахнущую краской театральную афишу и передал сверток курьерше.
— Спасибочки вам… До свидания… — Поклонившись, курьерша вышла из кабинета. В ее виноватой благодарной улыбке Бояринов прочитал душевную радость, которую человек испытывает, когда он сделал больше и лучше, чем ему надлежало сделать.
Выходя из кабинета, Бояринов в дверях чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Лисогоровой.
— Леонид Максимович, голубчик, выручай!.. Меня буквально осаждают… Звонят домой, звонят в театр, подсылают гонцов… И все, как сбесились, все хотят иметь альманах!
Бояринов смотрел на Лисогорову и устало улыбался.
— Ну, что ты молчишь?!. Мне нужно хотя бы пять-шесть экземпляров! Звонили из Вахтангова, из Ермоловского, из цыганского… А сегодня утром домой звонили из Звездного городка. Космонавты просят хотя бы два-три экземпляра на весь городок… Ты понимаешь — космонавты!.. Разве можно им отказать?!. Ленечка, помоги!.. Космонавтам я обещала…
— Дорогая Татьяна Сергеевна!.. Если бы у меня сейчас просил всего-навсего один экземпляр сам премьер-министр или даже… — Слово «даже» Бояринов произнес с таким значением и с такой растяжкой, к которым актеры прибегают в спектаклях, когда хотят особо подчеркнуть смысл того, что последует за этим акцентом, — даже наш главный бухгалтер, то и в этом случае я опустил бы руки. Не могу!.. — Ребром ладони Бояринов провел по горлу. — Хоть зарежьте!
— А что же делать? — Руки Татьяны Сергеевны опустились расслабленно, как плети. — Где же взять?.. Ведь просят не кто-нибудь, а космонавты! — Татьяна Сергеевна как-то неожиданно резко встрепенулась и грудью пошла на Бояринова, а тот продолжал рассеянно смотреть в глубину затемненного коридора и, отступая, словно разговаривал сам с собой:
— Выход есть… Я его вижу!..
— Ну что?.. Говори! Что нужно сделать?
— Нужно просить высокое начальство дать еще один тираж. И причем — не какие-то жалкие пять-десять тысяч экземпляров, а сто тысяч!.. Да что там сто — триста тысяч!.. И расхватают!.. Даже не утолим голод книголюбов. Их сейчас от Бреста до Владивостока — миллионы. Причем, они удивительно сплочены. Информация у них идет по электрической цепочке. А сколько театралов в одной только России?!.
Лисогорова горестно вздохнула и нараспев, на мотив оперетты, пропела, придав своему лицу выражение нарочитой театральности:
— Слова, слова, слова!.. — Подняв на Бояринова взгляд, в котором тот прочитал мольбу, она продолжала: — Ленечка!.. Если бы я знала, что на меня после моей статьи в альманахе обрушится такой водопад внимания и повышенного интереса к моей заурядной персоне — я ни за что бы не стала ворошить свою память и писать об этой злополучной косе. Даже в улыбках встречных, кто раньше сроду обходился кивком головы или невнятно бурчал под нос «Здрась…», теперь я читаю какое-то особое умиление, вроде бы жалеют меня или глубоко сочувствуют. А мне это ужасно не нравится. С детства не люблю, когда меня, как сироту казанскую, жалеют. Ты этому веришь? Ну что ты улыбаешься, как подсолнушек в ясный день? Я спрашиваю — ты этому веришь?
— Верю! — твердо ответил Бояринов. — Ваша злополучная, как вы выразились, коса мне снится по ночам. Снится с того самого дня, когда я впервые прочитал рукопись вашего очерка.
— Даже снится? — Татьяна Сергеевна кокетливо дернула плечами. — С чего бы это, Ленечка?
— Когда-нибудь вы об этом узнаете, дорогая Татьяна Сергеевна. А сейчас — предлагаю: давайте вдвоем сочиним письмо на имя Председателя Госкомиздата, чтобы пока еще не уничтожены матрицы альманаха, дали еще хотя бы один массовый тираж. А впрочем — будем просить сразу двести тысяч. Покойный Градобоев, по рождению орловский крестьянин, любил говорить: «Когда идешь к высокому начальству, чтобы выпросить маленького теленочка — проси большого верблюда». Есть логика?
— Нет уж, голубчик, этого маленького теленочка проси ты. Ты — председатель месткома, ты редактор и составитель альманаха… А я всего-навсего фигурирую в нем как автор, как заблудшая овечка, которая, кроме чувства сострадания, не вызывает у читателя никаких других чувств. Мне об этом просить даже неприлично.
Глядя вслед Лисогоровой, которая, помахав ему рукой, попрощалась с ним, Бояринов подумал: «Она права. Ей просить об этом — не с руки. Вот тут-то, очевидно, должен сработать Семен Григорьевич. Чистые бланки министра лежат в его столе. Текст придумаю я».
…Вырулив машину на широкий проспект, Бояринов думал и о тексте письма Министру культуры, адресованного Председателю Госкомиздата (этот текст в его голове уже вчерне сложился), и о косее Лисогоровой, путь к которой сейчас лежал через пансионат для престарелых, и о Магде, с которой он не виделся всего лишь три дня, а казалось, что последняя их встреча была уже давно…
Повинуясь последнему чувству, Бояринов поехал не на улицу Куйбышева, где находилось Министерство культуры, и не в пансионат к престарелой актрисе Волжанской. Он поехал к Магде. Сегодня она ждет его к обеду.
Две шестнадцатиэтажные башни пансионата, возвышались на пригорке, броско выделялись среди старых, приплюснутых к земле домов окраины Москвы, где некогда была деревня. Втянутая окружной дорогой в черту столицы, деревня постепенно теряла свой первозданный вид, она как бы растворялась в новых строениях из бетона и стекла. Лишь кое-где она давала себя знать старыми деревянными флигельками с мезонинами и резными наличниками окон.
День стоял жаркий, душный. Не чувствовалась даже близость Москвы-реки, которую несколько минут назад Бояринов пересек на машине. Всю дорогу в пансионат он старался представить себе лицо Волжанской, и это удавалось ему с трудом. Отчетливей оно вспоминалось в ролях, некогда сыгранных известной актрисой. То она представала перед ним Вассой Железновой, то в сверкающих жемчугами и бриллиантами нарядах королевой из «Гамлета», то Гурмышской из «Леса» Островского… Уверен Бояринов был только в одном: Волжанскую он узнает из тысяч старух, хотя не видел ее уже десять лет, с тех пор, когда еще был студентом театральной студии.
Поставив машину в глухом переулке так, чтоб ее можно было видеть из окон башни, он по узкой асфальтированной дорожке поднялся на взгорок, на котором обособленно возвышались два корпуса пансионата. Ему нужен был первый корпус. На всякий случай он захватил с собой альманах, который с трудом достал на базе Москниготорга.
Сразу же, как только Бояринов очутился на площадке перед первым корпусом, он попал, как ему показалось, в иное царство. Уж так, видно, устроен человек. Попадая на праздник к резвящимся детям, он ощущает в себе прилив душевной радости — перед ним яркое солнечное утро человеческой жизни: смех, визг, улыбки, алые губы, румяные щеки, сверкающие зубы… Человек как бы невольно растворяется в потоках хлынувшей на него молодости, забывает о своем возрасте, о седине, о болезнях… Совсем другое, тягостное чувство испытал Бояринов, когда он очутился на площадке перед первым корпусом пансионата, где на ярко выкрашенных в синий цвет лавочках сидели старые немощные люди, лениво переговариваясь между собой. В первую минуту он даже смутился, почувствовав на себе пристальный, болезненно-вопрошающий взгляд высохшей старушки, которая даже несколько приподнялась, увидев молодого мужчину. «Может, с кем-то спутала?» — подумал Бояринов и, словно сквозь строй, прошел к входу в корпус.
В широком просторном холле с колоннами на него сразу же, прямо с порога, накатилась удушливая волна холодка, в котором смешались несколько запахов: лекарств, нафталина, лежалого волглого белья и еще чего-то такого, чему может быть только одно название — старость.