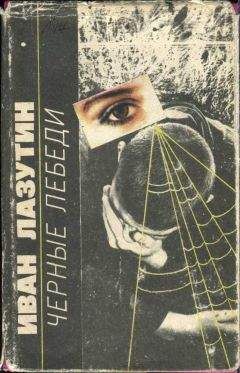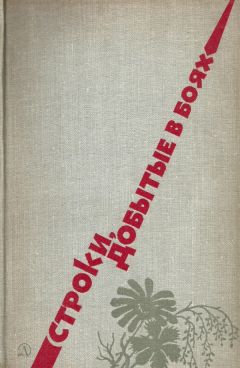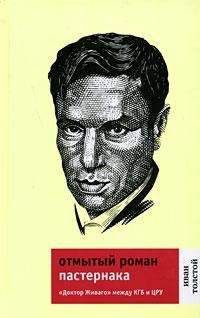Дмитрий начал рассказывать о своих неладах с Богдановым.
Зонов внимательно слушал и время от времени обеими руками поправлял очки. Потом он энергично, словно припомнив что-то важное и неотложное, вскинул голову и набрал номер телефона:
— Петр Никифорович? Зайди на минутку.
Положив трубку, Зонов, точно прицеливаясь, посмотрел на Шадрина:
— Насчет прокуратуры, Дима, ты сам видишь, дело — табак. Инвалидность никуда не сбросишь. Судимость жены — тоже не орден. С такой жиденькой характеристикой твою кандидатуру в народный суд сейчас тоже не выдвинут. Остается: нотариат, паспортный стол в милиции, юридическая консультация или… — Зонов неожиданно замолк.
— Или что? — спросил Шадрин.
— Или переквалифицироваться.
— В управдомы? — невесело пошутил Дмитрий.
Зонов снова зашагал по кабинету. Высокий, плечистый, каждым своим жестом, поворотом головы, стремительным движением темных густых бровей, глубокой и энергичной затяжкой папиросы он воплощал в себе крайнюю сосредоточенность в мыслях и огромную занятость делом, которое отлагать нельзя. Шадрин смотрел на своего друга и в душе восхищался им. «А ведь из Копейска ты приехал в кирзовых солдатских сапогах и шинели, которую сбросил только на четвертом курсе, когда мы вместе с тобой купили обноски на Тишинском рынке. А сейчас!.. Вот откуда выходят государственные мужи!» — подумал Дмитрий, не спуская глаз с Зонова.
— Почему в управдомы? Юрист с университетским образованием повезет любой воз. Лишь бы были лошадиные силы. Ведь мы вот не юристами работаем, а дел хватает. Помнишь лекции Андрея Ивановича Денисова о том, что такое звенья государственного аппарата? — Зонов хотел продолжить мысль, но, услышав, как кто-то вошел в кабинет, повернулся.
В дверях стоял Пьер. Тот самый здоровенный Пьер, который был первым заводилой и душой студенческих вечеринок на Стромынке. Он еще больше располнел и раздался в плечах. Настоящее имя Пьера было Петр Никифорович Савченко, но кто-то на занятиях по французскому языку окрестил его однажды Пьером, с тех пор это имя намертво приклеилось к нему. Первое время Савченко это злило, а потом он махнул рукой и решил следовать пословице: «Хоть горшком назови, только в печку не ставь».
Была у Пьера своя страсть: он любил красивые иностранные слова и крылатые выражения. Причем несколько самых обиходных житейских фраз мог произнести и по-французски, и по-английски, и по-немецки, и даже по-турецки… На незнакомых девушек в парке «Сокольники», куда студенты иногда ходили целым скопищем, он производил ошеломляющее впечатление. Познакомиться с девушкой для него было проще, чем выпить стакан газированной воды. А познакомившись, он тут же забрасывал ее каскадом непонятных иностранных слов. Говорил сразу на четырех-пяти языках, часто пускал в ход латынь, по которой он выше тройки не поднимался, представлялся то секретарем французского посольства, то сотрудником английского торгпредства, то иностранным туристом, который объехал весь мир и только в Советской России увидел прекрасных людей и прелестнейших девушек… Молол такое, что друзья, идущие шагах в пяти сзади, покатывались со смеху.
И вот Пьер, тот самый Пьер, который почти каждый месяц бегал в ломбард закладывать свои трофейные часы, теперь стоял на пороге кабинета и, широко улыбаясь, смотрел на Шадрина.
— О-о-о! — вырвалось из его широкой груди. — Каким ветром?! Говорят, что ты заткнул за пояс знаменитого Шерлока Холмса! Ну, как жизнь, как работа — рассказывай.
Шадрин не хотел второй раз рассказывать о своих неудачах, о конфликте с Богдановым. Он посмотрел на Зонова, и тот понял его.
— Дело тут, Пьер, не совсем веселое. Вот прочитай эти два документа, и тогда будем говорить. Только пока о деле.
Все, кто близко знал Пьера, любили его за бесшабашную натуру и неунывающий нрав. Но была у него еще одна непобедимая слабость — он хотел написать такой роман о своей жизни, который, как он выражался, «заставил бы прослезиться благословенную матушку Русь». Иногда в кругу близких друзей, за рюмкой вина, в пылу откровенности он признавался, что несколько глав этого шедевра им уже написаны, но до середины книги доберется еще не скоро. «Все гениальное создается десятилетиями», — успокаивал он себя и заверял друзей. Когда его спрашивали, где он хранит свой труд, Пьер горько вздыхал и отвечал, что рукопись его эпопеи лежит в кованом сундуке у тетки, которая живет в Конобееве. Когда же кто-нибудь шутил: «А если дом сгорит?» — Пьер невозмутимо парировал: «Я не такой дурак, чтобы шедевр хранить в одном экземпляре. Оригинал рукописи в надежном месте. Ничего!.. Вы еще узнаете, что такое Пьер с Полтавщины».
Хмелея, Пьер забывал о своем рукописном шедевре и принимался бранить роль инспектора отдела кадров. «Ну кто, кто я такой?! Жалкий чиновник, клерк, мальчик на побегушках, писарчук!.. А ведь я брал Берлин! Моя роспись стоит на колонне рейхстага! Знаете, друзья, вчера я переделал стихи Лермонтова. Представьте, что обращаюсь я не к Мадонне Рафаэля, а к своему министерству, — поднимая отяжелевшую голову, Пьер выразительно-тоскливо читал:
Быть может, те мгновенья.
Что я провел в стенах твоих,
Я отнимал у вдохновенья,
А чем ты заменило их?
Зонов и Шадрин хорошо знали Пьера, знали его слабости, его добрую душу. Прочитав документы Шадрина, Пьер потер ладонью подбородок.
— Стереотип двадцатого века! — многозначительно заключил он и отодвинул от себя документы. — Не сработался с начальством.
— А как это звучит по-латыни? — съязвил Зонов, зная давнишнюю слабость Пьера при случае козырнуть афоризмом древних. Георгий рассчитывал, что на этот раз в запасе у Пьера не найдется подходящей крылатой фразы, но она нашлась.
Пьер встал, потер лоб и, подняв высоко голову, с расстановкой, подчеркнуто театрально произнес:
— Уби конкордиа — иби виктория! — видя, что Шадрин и Зонов что-то силятся вспомнить, он тут же перевел афоризм: — Где согласие — там победа! Вот так-то, Дима. С начальством нужно всегда соглашаться, если хочешь ехать по жизни на белом коне.
Брови Зонова сошлись, образовав глубокую складку:
— В чем-то ты, Пьер, прав.
За время работы в министерстве Зонов не раз замечал, что, при всей своей видимой анархичности в кругу друзей, Пьер неожиданно менялся в лице, если его вызывало на доклад начальство. Наигранный нигилизм его сразу же исчезал, а на выхоленном румяном лице застывало выражение готовности броситься по приказу начальства хоть в огонь, хоть в воду. Всей своей неуклюжей и крупной фигурой, слегка склоненной над столом начальника, он в эти минуты как бы выговаривал: «Я вас понял! Все будет сделано!»
— Как ты сам на это смотришь, Георгий? — озабоченно спросил Пьер у Зонова. — Поможем?
— Ты стоишь у кадров, тебе и карты в руки, — ответил Зонов, изучающе глядя на Пьера. — Пристрой где-нибудь при кафедре в институте.
— Ты за кого меня считаешь, Георгий? Да я… Да если ты хочешь знать!..
— Пьер, у нас мало времени для клятв и заверений. Короче! Не побоишься своей начальнице рекомендовать нашего друга для работы при кафедре в одном из вузов твоего сектора? — Зонов энергично ввинтил горящую папиросу в дно пепельницы.
— Ты о чем спрашиваешь?! Хоть сейчас! Если будет нужно, могу обратиться к начальнику главка! — горячился Пьер.
Дмитрий чувствовал себя неловко. Лучше бы весь этот разговор состоялся без него.
Зонов позвонил Марине Андреевне и пригласил ее к себе. Через минуту в кабинет вошла молодая женщина, красивая, высокая, статная, с прической, над которой поработал мастер. По ее слегка припухлым верхним векам и веером разбегающимся от уголков глаз мелким, еле заметным морщинкам Шадрин понял, что Марина Андреевна близорука, но, как и многие модницы-женщины, не носит очков. Щурясь, она посмотрела на него, но тут же, отчего-то смутившись, опустила глаза. Это была начальник отдела кадров главка технических вузов, в котором Пьер работал инспектором.
Возраст таких женщин, как Марина Андреевна, сразу определить трудно. Скажи она, что ей двадцать шесть или двадцать восемь, — поверишь. И другое могут сказать о такой: «Глядите, ей уже под сорок, а она еще совсем как девушка». И на это трудно возразить. Но здесь же, любуясь ее свободными, непринужденными манерами, невольно подумаешь: «Перед истинной красотой отступают морщины. Красота всегда юная…»
Марина Андреевна курила. Курила изящно, не торопясь и не считая, что это осудительно для женщины. В каждом ее жесте, в малейшем повороте головы, в дрогнувших уголках губ — она слегка улыбнулась, заметив замешательство Пьера, который кумачово зарделся, не зная, куда деть свои большие непослушные руки, — во всем чувствовалось, что она знает цену себе и своему непогрешимому авторитету.