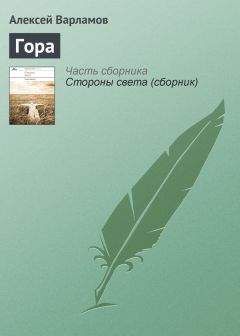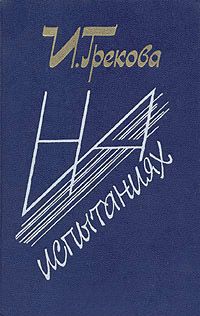— И эти, по-твоему, не нужны? Куцый, Кузьма?
— Эти пускай будут. Они личности.
— А для меня каждое дерево личность.
— Это уж ты загнула.
Дошли до середины двора. Там, над большим деревянным столом на чугунных ножках, раскинуло руки дерево. Вера остановилась, задумалась, заморгала глазами...
— Ну, ну, — сердито сказала Маша, — только без слез.
— Это грецкий орех.
— Не вижу причины плакать.
Вскоре после конца войны полковник Ларичев демобилизовался, вышел на пенсию и, как многие отставники, решил строиться. После долгих хлопот дали ему участок земли на окраине того самого южного города, где родилась и росла Вера Платоновна, где и теперь еще жила ее мать. Ужик с войны не вернулся, и эта безвестная гибель вконец состарила Анну Савишну, согнула ее статную спину, обвела глаза темными тенями, похожими на выцветшие синяки.
Слава богу, хоть Женечка нашлась, прислала письмо: первый муж погиб, долго бедствовала, скиталась (об этом темно), теперь замужем за другим. Живет в Москве, муж большой человек, старше ее на двадцать лет, разумеется, ее обожает, прямо на руках носит. Квартира, обстановка — все было бы хорошо, если б не прежняя семья, которой надо помогать. А почему — неизвестно: дети уже взрослые, жена пожилая, зачем ей на старости лет туалеты, курорты? Семен (это муж) очень широкий, отдает туда чуть ли не половину зарплаты, так что приходится самим себе отказывать. Обещала приехать, но точного срока не называла. Извинялась, что денег пока не шлет. Анна Савишна написала в ответ, что ничего ей не нужно, пусть Женя не беспокоится. Та и не беспокоилась, потому что о деньгах разговору больше не заходило. Анна Савишна, конечно, скучала по Женечке, но как-то отодвинулась от нее младшая, прежде любимая дочка со своими черными, куда-то плывущими глазами, с губастым, пухлым, обиженным ртом. Гораздо ближе стала с годами старшая, Верочка. Как они рухнули друг другу в объятия, встретившись после войны в старой хате у крутого обрыва! «Мама, мама!» — «Дочка, дочка!» — только и всего... Так и остались — ближе всех. Много-то не говорили, ни о чем не расспрашивали, все и так ясно. Каждая чуяла, что у другой в душе. Анна Савишна нутром поняла сложную Верочкину судьбу, огорчалась, что дочь подурнела, постарела (это в тридцать четыре-то года!), понимала ее любовное рабство, жалела ее: «Ничего, Верочка, я тебя откормлю!» — и плакала.
Участок, выделенный под строительство дома отставному полковнику Ларичеву, был огромный, неправильной формы урезанный четырехугольник — пустырь пустырем: ни деревца на нем, ни кустика, одна полынь, бурьян и битый кирпич. Вера, глянув на участок, даже пала духом (это она-то!) — так было все здесь неуютно, неприкаянно. Холодное море сурово синело вдали (была поздняя осень), ветер гнал через участок клубки перекати-поля, — казалось, эти клубки, сцепившись, ссорятся. Ни шалаша, ни будочки — спрятаться от ветра. Но она знала: раз Шунечка затеял строиться, не отступит. Денег на строительство не было. Ларичев раздобыл долгосрочный кредит, получил разрешение разобрать на кирпич пару разрушенных зданий — не так далеко от участка, но и не так близко.
Начались работы. Жить было негде; идею поселиться у матери Александр Иванович круто отверг. Поставили, тут же на участке, дощатую будку-времянку с земляным полом, с чугунной печкой; когда ее топили, она сурово калилась малиновым боком с беловатым пятном посредине. На этой печке Вера готовила немудреную трудных этих времен еду, памятуя, что обед в доме должен быть каждый день. Печку топили щепой, мусором, рваным толем. Дымила она нещадно, особенно при западном ветре, донья кастрюль были бархатные от сажи. Иногда Вера собирала кухонную посуду в мешок и шла к морю. На берегу было пустынно, холодно, ветер трепал головной платок, норовя совсем его унести, руки стыли, песок был крупный и больше царапал, чем чистил. И все же Вера любила купать кастрюли: что-то вольное, свирепое обдувало ее там, на берегу. Море пахло йодом, простором и, как это ни странно, — вечностью...
Александр Иванович, сухой и неласковый, целыми днями пропадал по делам стройки: с кем-то встречался, выпивал, советовался, тут доставал машину, там — цемент, гвозди, оконные стекла. Вот где ему пригодился хоть и горестный, но все же опыт работы в КЭО. Приятели, приятели... Время от времени Ларичев приводил кого-нибудь из них в дом-времянку. Спирт он приносил с собой, но закуску всегда требовал с Веры. «Понимаю, время трудное, все по карточкам, теорию я и без тебя знаю. А ты раздобудь где хочешь. Я ж тебя не спрашиваю, где достать гвозди?» И Верочка изворачивалась, кик могла. Александр Иванович требовал сложно: не только накрытого стола, но и улыбки, радушия, прелести женской.
— Ты должна облучать, понимаешь? Иначе какая же ты хозяйка?
Вера и старалась — облучала. А гости были ужасны. Какие-то представители подземного делового мира, где циркулировали дефицитные вещи, где можно было (ты — мне, я — тебе) достать что угодно. На видимой поверхности этих вещей не было, но в глубине они обращались и могли быть вызваны оттуда неким подобием волшебства. Надо было знать, кого, чем, когда угостить, кого с кем познакомить, кому о чем намекнуть. В этом мире не торопились, подолгу сиживали за столом, беседуя о чем угодно, только не о прямом деле. Нет, надо было пройти через священный ритуал приятельства, приобщиться (иногда почти искренней!) взаимной любви, когда дело устраивалось не в ответ на какую-то услугу или, упаси боже, денежный куш, а просто так — из любви к ближнему. Эту любовь надо было в себе раздуть, и времени на раздувание не жалели. Дельцам тайного мира надо было верить в свое бескорыстие. А чтобы верить, надо было глушить себя водкой. Ларичев все это понимал, но, помимо воли, все же отчасти испытывал влияние традиционного ритуала. Иногда, особенно выпив, он почти верил, что его окружают пусть простые, но честные и добрые люди, готовые бескорыстно его осчастливить...
А дело шло медленно. Гость, выпив разведенного спирту, еще кочевряжился, не мог прямо и просто приступить к делу: надо было еще покривить душой. Не до конца опорожненная бутылка с жемчужно-опаловой жидкостью, алые шары квашеных помидоров, атлантическая сельдь с перламутровыми, втянутыми боками — все это располагало к лирике. Гость расстегивал пиджак на объемистом животе и начинал откровенничать. О своем детстве. О судьбе, вечно его преследовавшей («Только опомнился, а она тебя по морде!»). О неудачной женитьбе. О черной неблагодарности иждивенцев — детей, племянников. «Я тебе вот что скажу, Саша. Верь моему слову, как на духу: ни разу в жизни ни тютелькой для себя не попользовался. Только для других. Валил, как в прорву. Есть такие, что все себе, а я — другим, как ненормальный. И что? До седых волос дожил, паршивой тысчонки не скопил (тут извлекалась мятая сберегательная книжка со вкладом двенадцать рублей пятьдесят копеек, Ларичеву предлагалось ее осмотреть и удостовериться). Кого люблю, — продолжал гость, — ничего не пожалею, все отдам. Плевать мне на эти деньги (тут сберкнижка бросалась на пол и топталась ногами). Я тебя, Саша, полюбил (поцелуй), ты мужик правильный, прямой, вроде меня. Выпьем, Саша, за нашу мужскую дружбу!» Опять наливались лафитнички, насаживались на вилки шары помидоров, ломти атлантической сельди... Александр Иванович тоже мутнел разумом, начинал любить гостя, называл его Колей...
— Главное, жена у тебя хороша! — говорил Коля, разомлев окончательно.
В разговор о жене Ларичев не вступал даже пьяный.
Дело шло медленно-медленно, но все-таки шло. Невозможное становилось возможным. На участке скапливался строительный материал: кирпич, лес, шифер. Появлялись бригадами шабашники, строительные рабочие — их тоже надо было поить, любить... Рабочие приходили и уходили, не сделав почти ничего (время тратилось больше на чоканье и взаимное хлопанье по плечу), а потом вдруг являлись на весь выходной день, и за этот день стройка подвигалась больше, чем за два предыдущих месяца. В общем, дом потихоньку рос себе да рос. Многое Ларичев делал сам — клал кирпичи, месил раствор, строгал и прилаживал двери, и Вера ему помогала — веселая, худая, бесполая, похожая со своей длинной шеей на сторожкого гуся, особенно когда вышагивала по участку, нагибаясь за каждой щепкой...
Зимой в дощатой времянке бывало нестерпимо холодно, и Ларичевы волей-неволей перебирались к матери, где для них всегда готов был и стол, и дом, и нежная, молчаливая забота. Анна Савишна, прежде не очень-то любившая зятя, теперь стала его жалеть, баловать. Может быть, иной раз виделся он ей сыном, Ужиком... Кто знает? Александр Иванович в гостях у тещи не заживался. Чуть потеплеет — берет Веру и уводит обратно в свою времянку.
Полтора года строился дом. Вот наконец он закончен, подведен под крышу — поверить этому почти невозможно. Он еще пуст, пахнет известкой, краской, сыростью, но существует...