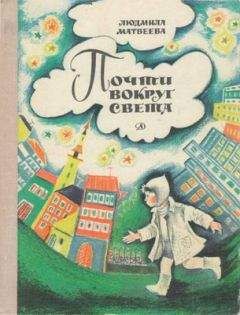Война... В общем, он сравнительно легко ее отбыл. Легко, но достойно. Не трусил, не прятался, не ловчил. Чего же ты хочешь от меня, совесть? Кажется, наконец понял, в чем дело. Ленинград. Мама.
В Ленинграде оставались мама и Клавдия с сыном Петром (Варя эвакуировалась со своим институтом, хотела взять с собой маму, но та не поехала).
А он одно время воевал неподалеку, чуть ли не в черте города. На этом участке фронта было сравнительно тихо. Конечно, были бомбежки, обстрелы, но куда страшнее было в Ленинграде, блокадном. Он это знал: иногда ему удавалось попасть к своим...
В памяти — комната, густо заросшая инеем; черный потолок с висящими слоями штукатурки. «Что это у вас с потолком?» Равнодушный ответ: «Бомба попала». Черным обведенные, измученные лица. Не лица — одни контуры. Что-то новое в глазах мамы: страх. Смотрела на Клавдию искоса, исподлобья, как собака на строгого хозяина.
Опять и опять вопрос: виноват или нет в ее смерти? Формально — нет, а по существу — да. Клавдия маму не любила. Все для нее делала, кормила ее наравне с собой, но не любила. А маме как раз нужна была любовь. Без нее она пропадала, без нее умерла. Мама — нежное существо с крохотными ногами в детских валенках...
Он-то любил ее почти по-прежнему. «Почти» — ибо не мог противостоять Клавдии. В те редкие разы, когда заезжал домой, мама взглядом умоляла его о любви, а он отводил глаза. Вынимал из рюкзака сбереженный паек: несколько сухарей, кусков сахару, иногда — банку консервов. Говорил: «Мне пора». Целовал Клавдию в темные, властные губы. Целовал маму в щеку. Если не спал Петя — целовал и его. Мальчик, черненький, дичился, не шел на руки — отвык. А он не настаивал. Махнув рукой, уходил. Туда, к себе, на фронт, где ему было легче.
Мама умерла в самую страшную, первую блокадную зиму.
Никогда не хватало мужества расспросить Клавдию: как умерла? Очень ли мучилась? Вспоминала ли его, любимого сына? Эта непогашенная смерть так и осталась на совести. Саднит до сих пор. Без вины виноват? Нет, с виной.
А Клавдия с Петей выжили, эвакуировались на Большую землю. В сорок четвертом вернулись. В сорок пятом вернулся и он, Фазан, глупая птица. Стал опять плавать. Опять повернулся к ветру: как проще, привольнее. Возобновилась привычная, легкая жизнь. Менялись только песенки, которые он наигрывал на фортепиано. Да все больше стал выпивать. Обратилось уже в привычку.
...Как-то раз захотелось тряхнуть стариной: нарисовал карикатуру на капитана. Вышло плохо, никто не смеялся. Куда-то исчезла его с детства твердая линия, рисовал беспомощно, рваными черточками. Видно, разучился. Больше не пробовал. Рояль — это беспроигрышный номер.
Клавдия любила его все так же свирепо, собственнически. А он становился к ней холоден, боялся ее желтых, к самым вискам разведенных глаз. Товарищи дразнили его «подкаблучником»... А что? Справедливо. Противостоять Клавдии мог бы сильный. А он был слаб.
Вскоре после войны родился второй сын. Черт возьми, как же его звали? Не дает покоя имя второго сына. Плохо с памятью. Целыми полосами заливает ее мраком. Вспышки, а между ними черно.
Ну ладно, не могу припомнить имя младшего, назову его заново, будто он только что родился. Назову Николаем, Колей. Мальчик с родинкой над верхней губой, в самой канавке, ведущей к носу. Особая примета: родинка на верхней губе. Будет мешать бриться, когда вырастет. Мешает ли теперь, когда вырос?
Красивый мальчик. Не на кошку — на голубя, вот на кого он был похож. Круглый, гладенький, с воркующей речью. Речи, собственно, еще не было — отдельные слова. «Пень», — вспомнил Федор Филатович и внутренне рассмеялся. Запомнилось-таки это слово. Первое, которое произнес Коля (условный Коля).
А дело было так. Коля долго не говорил. Другие дети в его возрасте вовсю болтали, он — ни в какую. Родители приходили, хвастались. «А мой-то пень ничего не говорит», — отвечал Федор Филатович.
Коля не раз слушал такие беседы. И вот однажды при мальчике опять зашел разговор о его отсталости. «До сих пор ничего не говорит», — пожаловался отец. И Коля вдруг подсказал: «Пень...»
«Пень», — чирикнул, как чижик. Первое слово. Что было дальше? Как пошло его развитие? Ничего этого Федор Филатович не знал. Потому что вскоре расстался навсегда и с Клавдией, и с сыновьями. Вышел наружу его роман с Дашей. Они переписывались «до востребования». Клавдия что-то заподозрила, явилась в почтовое отделение и «востребовала». Девушка на почте не смогла ей противостоять. Пришел домой — ливень пощечин, лавина презрения. Растоптан, раздавлен. Уехала — и с сыновьями. Как в воду канула...
А у него — Даша. Чудесная, обольстительная, тогда еще молодая. Тридцати не было, а ему за сорок. Воскрес с нею, обрел себя. Мелкокудрявая, вечно встрепанная, крутобокая, с ярким румянцем. Заразительный, мелкозвонный смех... Даша!
При Даше все становилось просто. Клавдия — та, напротив, все усложняла. Вырвался к Даше, как на волю. Особенно вольно стало, когда отпала еще одна забота — Дашин муж.
Ничего был парень Витя. Серьезный, добросовестный, переполненный, как и Клавдия, чувством долга. Их бы свести с Клавдией — отлично поняли бы друг друга. Но любовь не спрашивает, кого с кем свести. Даша Витю жалела, но не грустной, а какой-то веселой жалостью. Весело путалась между двумя Любовями — старой и новой, законной и незаконной. Новая протекала бесстрашно и авантюрно. Ночевали то здесь, то там. Иногда удавалось попасть в гостиницу, минуя запреты. А то — где-нибудь в загородной лачуге. Садились в поезд и ехали наугад — в Шувалове, Репине, Сестрорецк... Стучалась в первый попавшийся дом. Очаровывала хозяйку. Роняла слезу: нам, мол, с мужем негде переночевать, в гостиницах нет мест, ночуй хоть на вокзале... Хозяйка, разжалобившись, пускала — иной раз в горницу, а то и в сараюшку. Чужие, узкие койки (как счастливо на них спалось вдвоем!), подушки, из которых лезло перо. Утром — перышко в мелкокудрявой, вечно встрепанной голове... Счастье — веселое, праздное счастье.
Не могла бросить Витю: «Он без меня погибнет!» А когда погиб, поплакала, но недолго. Не умела долго плакать.
Даша, милая моя Даша! Изо всех любвей — самая развеселая, самая легкая. Жизнь с нею улетала, как воздушный шарик. Ей-то бы не пришло в голову упрекать, судить, казнить себя за то, что зря потратила свою жизнь. Конечно, не зря! Сколько от нее было людям радости, пусть не безгрешной!
...Кран возражает, твердит свое «waste».
— Замолчи, идиот! — кричал ему мысленно Федор Филатович. — Не трогай мою Дашу!
Да и он-то сам, может быть, не так виноват, как об этом долбит кран. Если б хоть ненадолго заставить его замолчать, можно было бы собраться с мыслями. Кран же не бог, с ним можно и поспорить, да и с богом спорили некоторые...
Иной раз он и впрямь, доведенный до отчаяния, вступал с краном в воображаемый спор.
— Ну не совсем же зря я прожил на свете, — ожесточенно возражал крану Федор Филатович, — ведь было же кому-то и хорошо со мной, весело, легко? Ведь украшал же я кому-то жизнь? Когда я появлялся, забывали же многие свои заботы? Ведь шла же от меня людям радость — пусть временная, пусть дешевая?
...А вот Варя, которую ты все время тычешь мне в нос, образцовая Варя, которая жила правильно, ни разу не солгала, не ошиблась, не растратила ни копейки из того немногого, что ей было отпущено, — кому была от нее радость?
Маме? Ну нет. И не сумела она, образцовая дочь, спасти маму, увезти с собой хоть насильно. Оставила на Клавдию. А ведь знала, что этого делать нельзя!
— Хочешь оправдаться? — ехидно подзуживал кран. — Ну валяй!
Нет, он не хотел оправдаться. Он уже ничего не хотел, кроме самой простой тишины. Чтобы он мог сам, без прокурорской подсказки, осмыслить прожитое, подвести итоги. Нужно ли ему уж так жестоко казнить самого себя? Но кран продолжал свое «waste». И не было на него управы. Даша не понимала, чего ему нужно было, до смерти, до зарезу! Чтобы замолчал, заткнулся, умер кран!
Лиза — та поняла бы.
Лиза, Лиза... И опять, и опять — она.
Сестра Кости. Даже трудно поверить, что брат и сестра, хотя внешне чем-то похожи. Оба высокие, остроносые, плечистые, но какие разные! Лиза — сама прямота, Костя — сама уклончивость. У него глаза с голубизной, с косиной, навыкате. У нее ни голубизны, ни косины, ни выката. Чисто серые глаза.
С веселой компанией брата она не сливалась. Не осуждала, но держалась особняком. Ушла из дому — в школе, где она преподавала физкультуру, выделили ей комнатку, ту самую, под лестницей, со скошенным потолком. Где еле умещались койка и стул. Где так отрадно было встречаться с Лизой, пить ее бедный суррогатный чай, жевать сухари.
Жилось ей нелегко. Но никогда не жаловалась. О доме покинутом не жалела. Что ее оттуда погнало? Наверно, какая-нибудь неправда. Кривда, по-старинному. Но я же был по уши в кривде? Как же она меня могла любить? Неизвестно как, но любила. И все-таки не стала меня искать, когда я пропал...