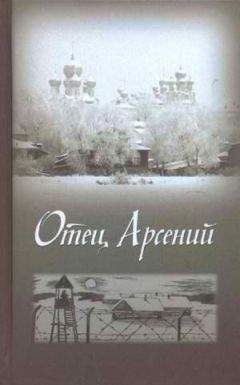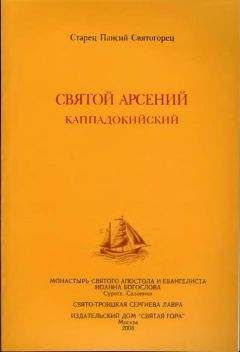«Вот что, поп! Играть с тобой не буду, ты и так полудохлый, тебе все равно подыхать, а мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что тебе диктовать буду».
«Гражданин следователь! Разрешите обратиться к Вам с вопросом?»
«У меня вопросов не задают, а отвечают, ну а ты давай – задавай, все равно тебе подыхать здесь».
«Гражданин следователь! Прошу Вас, взгляните в мое дело, и Вы увидите, кто допрашивал меня, но я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело».
Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к о. Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал:
«Кто бы ни допрашивал, а у меня все напишешь».
«Нет. Ничего писать не буду, в лагере нет никакой организации, Вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены насмерть».
Одинцов подошел ближе, губы его задрожали и исказились, тусклый бесцветный взгляд оживился, и, почти заикаясь, он произнес: «Милый ты мой! Ты не знаешь, что с тобой сейчас будет».
«Господи, помоги!» – только успел произнести про себя о. Арсений, как страшный удара лицо сбросил его со стула, и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено. Одинцов добьет его.
В какие-то короткие мгновения прихода в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами и пряжкой офицерского ремня, которой били по лицу. В эти мгновения о. Арсений молил Матерь Божию, но, не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту бессознательности и наконец затих.
Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что его волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил: «Добили старика, не доживет до утра». И матерно, с ненавистью вспоминали Ласкового – следователя Одинцова.
Третий раз о. Арсений очнулся, как ему почудилось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, о. Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, казалось, голову.
Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль вытесняла все, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти. Возвращаясь десятки раз в сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, о. Арсений в моменты возвращения сознания все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов, неимоверная боль, затуманенность мыслей отводили молитву.
В один из кратких периодов возможности сознавать о. Арсений с испугом понял, что он умрет без молитвы, без внутреннего покаяния. Голову кто-то поворачивал, что-то нестерпимо жгло и кололо, и вдруг о. Арсений услышал: «Быстро два укола камфары, осторожнее с йодом, не попадите в глаза. Накладывайте швы. Как мог этот мерзавец так искалечить человека? Осторожно брейте голову!»
Отец Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чем-то твердом и без одежды.
Сознание надолго покинуло его. Потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти больше трех дней на больничных нарах. Придя в себя, пытался понять, где он. У следователя, в бараке или еще где? И с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после двух или трех фраз боль опять отбросила его во мрак беспамятства, и эта борьба за молитву с болью и беспамятством продолжалась несколько дней.
С каждым днем он успевал захватить, именно захватить, все больше слов молитвы и наконец молитвой победил все. Глаза были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых и заботливых рук, так же кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его.
Голос был с легким еврейским акцентом: «Ну! Ну! Ничего, выжили. Не думал, что вырветесь из этой переделки. Завтра развяжу Вам лицо. Сам на допросах бывал, знаю эти легкие разговорчики, но мы Вас починили, почти как новый».
Скоро сняли повязку с глаз и головы. Врач, которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с о. Арсением, давал советы, успокаивал. «Тихо, тихо, сейчас посмотрим. Дорогой мой! Лицо у вас почти без единого шрама! Вот и хорошо. Рад за Вас».
На о. Арсения смотрели два больших близоруких глаза в очках. Лицо было мягким и добрым. «Задержу еще Вас здесь, сколько смогу, – говорил Лев Михайлович. – Задержу, да не попасть бы Вам второй раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьет».
Пробыл о. Арсений в больнице более сорока дней. Расставались со Львом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая о. Арсения, Лев Михайлович убежденно говорил:
«Не может так все продолжаться, не может. Обязательно кончится, и мы выйдем с Вами из этого ада и встретимся». И, действительно, в 1963 г. встретились.
Вернулся из больницы о. Арсений в тот же барак, но из старых жильцов его осталось очень мало, большинство угнали на рудник. Говорили, что и следователя Одинцова куда-то перевели.
Месяца через три после выхода из больницы вызвали о. Арсения в «особый отдел» к начальнику. Грузный, неповоротливый человек со свинцовым взглядом, он внимательно осмотрел о. Арсения и сказал: «Живучий ты! И Одинцова перенес, и в лагере зажился, не мрешь, ну это хорошо! Намекали мне тут из Москвы, чтоб тебя не добить, да кто разберет – может, на пушку берут, проверяют. Ну-ну! Живи, на тяжелые работы дам указание не посылать».
После этого разговора до самой смерти Главного в «особый» не вызывали. Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах.
Записано на основе рассказа о. Арсения нескольким
своим друзьям и духовным детям.
Сообщение о смерти Главного пришло к заключенным лагеря с опозданием на три дня. Пришло случайно, через охрану. Администрация лагеря по неизвестным причинам скрывала это известие.
Был март, стояли большие морозы, снежные вьюги проносились над лагерем, заметая его и временами отрезая от внешнего мира. Вместе с сообщением о смерти в лагерь вошло что-то тревожное, щемящее, неизвестное. Каждый думал: «Что будет? Пойдет ли все как раньше, или что-то изменится к худшему, и всех заключенных уничтожат?» Каждый молчаливо понимал: что-то должно случиться.
Первые два месяца, приблизительно до конца мая, лагерь жил прежней жизнью, но потом в его размеренный ход стало вторгаться что-то новое и почти неуловимое: казалось, что в хорошо заведенный механизм кто-то вставляет палки и сыплет камни.
Все так же работали, так же плохо кормили, так же умирали заключенные, но не привозили новых. В действиях начальства появилась нотка неуверенности, даже извинительного заигрывания с заключенными.
Приблизительно через год после смерти Верховного стали происходить перемены: улучшилось питание, матерщина и зуботычины исчезли, надзиратели и следователи в «особом отделе» обращались к заключенным на «вы». Приехали комиссии из ЦК, прокуратуры. Номера с одежды спороли и стали называть не по номерам, а по фамилиям.
Пошли опросы, подымали дела, разговоров было много. На некоторых заключенных дела были уничтожены, и следствие вели заново, отправляя заключенных в те города, откуда они были взяты. Вызывали свидетелей, кого-то запрашивали. Разрешили переписку и даже посылки. За работу стали платить и делать расчеты за питание и одежду.
Первые комиссии, опросив несколько сот заключенных, уехали, месяца через два приехала вторая партия комиссий, осела в лагере и приступила к поголовному пересмотру дел репрессированных. Вначале освобождали бывших военных, старых членов партии, ученых, бывших видных хозяйственных руководителей.
Прошло еще некоторое время, объявили массовую амнистию уголовникам. Лагерь из «особого» стал обыкновенным, но со строгим режимом. В нем остались бывшие полицаи, власовцы, уголовники, не попавшие под амнистию за совершенные тягчайшие преступления, и политические, освобождение которых, по неизвестным причинам, кому-то было нежелательным.
За каких-нибудь полтора-два года лагерь опустел на девять десятых. Бараки пустовали, административный состав сократили наполовину. Начальство решило сузить зону лагеря. Перенесли охраняемые вышки, проволочную ограду. Часть бараков осталась вне зоны, и их сожгли.
Последнее время о. Арсения переводили из барака в барак. Из друзей никого не осталось, но о. Арсений по-прежнему помогал окружающим, постоянно молился, ежедневно писал письма и с нетерпением ждал писем с воли.
Оставшиеся заключенные были крайне озлоблены, и было трудно сейчас войти с кем-нибудь в дружеские отношения. Два или три иерея и несколько верующих заключенных, которых знал о. Арсений, находились в состоянии затравленности, угнетенности, не надеялись на освобождение, но писали всюду заявления и жалобы и из-за этого почему-то держались обособленно и отчужденно.