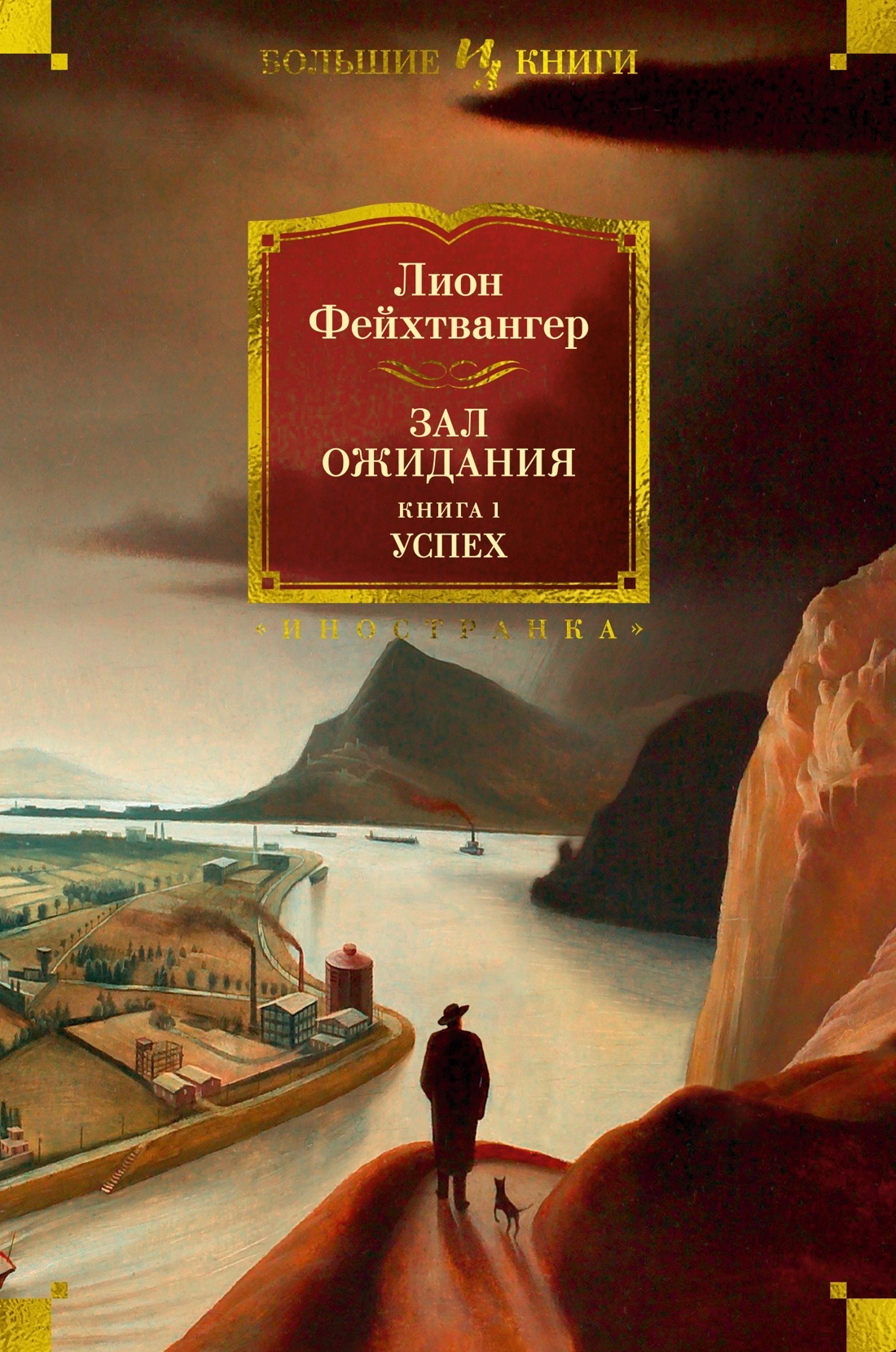жарить яичницу с ветчиной и готовить салат.
Только под утро, очень довольные, но отнюдь еще не закончив спора, они расстались.
– Приезжайте поскорей снова! – крикнул Кленк вслед отъезжавшему Маттеи. – Мне нужен еще материал для вашего «жития».
Впечатление от этого чтения заставило Кленка еще острее ощутить желание проследить судьбу тех, кто фигурировал в его воспоминаниях. Особенно сильно хотелось ему повидать Гейера. Ходили слухи, что Гейер поселился в каком-то маленьком местечке на южном берегу Франции. Кленк решил разыскать его.
Он отправился в автомобиле через овеянные ранним летом швейцарские горные перевалы, до краев исполненный сил и напряженного ожидания.
Местечко, где жил Гейер, было рыбачьим поселком. Поросшие темным лесом холмы тянулись вдоль берега, спускаясь почти к самому морю. Кедры, каштаны, пробковый дуб. После войны вся местность была густо заселена, особенно англичанами. Небольшие домики тянулись над деревней вверх по склонам холмов. Один из таких домиков купил для себя и Гейер.
В ответ на звонок Кленка громко и настойчиво залаяла собака. Показалась недоверчивая, желтолицая экономка Агнеса, ворчливо, маловразумительно объяснила, что господина доктора нет дома, когда он вернется – неизвестно и что он вообще никого не принимает. За спиной удалявшегося Кленка яростно тявкала собака. Желтолицая женщина сердито глядела ему вслед.
Кленка это не трогало. Погода была хороша, местность – прекрасна. Гейер отправился гулять. Он Гейера где-нибудь да разыщет. Было, пожалуй, приятнее поговорить с ним на открытом воздухе, в этих чудесных привольных местах, чем в тесной комнате.
Кленк поселился в приветливой маленькой гостинице. Узнал, что Гейер очень тихий господин, о котором мало что слышно и потребности которого весьма скромны. Он всецело находился под башмаком мадам, своей экономки или, может быть, жены – этого никто не знал.
На следующий день, под вечер, пробираясь без дороги сквозь густой горный кустарник, сквозь поросль дрока, тимьяна и лаванды, Кленк натолкнулся на того, кто был ему нужен. Человек этот сидел на обломке скалы, вперив взор в голубую гладь моря. Он выглядел изможденным, опустившимся. Кленк первый увидел его. Доктор Гейер, когда огромный человек в охотничьей куртке, топая тяжелыми сапожищами, приблизился к нему, побледнел, задрожал. Кленку передавали, что доктор Гейер во время покушения на него, так же как и в неприятной истории в связи с похоронами Эриха Борнгаака, вел себя отнюдь не трусливо. Но Кленк слышал также, что вызванный неожиданно испуг нередко сказывается на человеке с большим опозданием. Такой в свое время не испытанный страх, должно быть, и напал сейчас на адвоката при виде приближавшегося врага.
Кленку это было неприятно. Он пришел сюда не как враг. Он хотел знать, что стало с этим человеком, хотел, пожалуй, немного подразнить его – вот и все. Эрих Борнгаак умер, Симон, парнишка, был жив. А в общем – оба они сейчас остались при своей стариковской доле: Кленк при своих мемуарах, Гейер при своей книге «Право и история», или как там она называлась. Вражда к этому тощему адвокату? Нет.
Итак, он благодушно заговорил с доктором Гейером, стараясь быть как можно любезнее, чтобы тот поскорее пришел в себя. Но доктор Гейер не приходил в себя. Кленк скоро увидел, что доктор Гейер, должно быть, никогда в жизни уже не придет в себя. Покрасневший, тонкокожий, часто мигая, сидел он в своем широком грязноватом пиджаке и длинных обтрепанных о кустарник брюках, как-то не подходя к этому привольному, спокойному ландшафту, неисцелимо издергавшийся и развинтившийся. Неужели это был тот самый человек, который Кленку временами казался достойным противником? Это вообще уже был не человек, а вещь.
Эта вещь – Гейер – сидела на камне. Кленк говорил с вещью – Гейером, эта вещь – Гейер – думала мыслями прежних лет, и если задеть ее тут или там, то получалось какое-то подобие ответа, иногда даже складного, вразумительного ответа. В конце концов Кленк отправился с вещью – Гейером – домой, поужинал в обществе вещи – Гейера. На следующий день он уехал обратно в Берхтольдсцелль.
Поездка была прекрасная, и местность была прекрасная, и вообще Кленк никогда не раскаивался в том, что делал. Все же он не стал бы утверждать, что перемена в его враге Гейере доставила ему особое удовольствие. Он вычеркнул из своих мемуаров страницы, в которых шла речь о депутате Гейере.
21. В дело вмешивается тетушка Аметсридер
Тюверлен работал. В нем жило много образов, теснее связанных с его существом, рвавшихся наружу, но он избрал как раз этот свинцовый, неприятный материал – Баварию. У него был заказ.
То, что он тогда благодаря обозрению добился амнистии Крюгера, – это было случайностью, счастьем. Путь к воплощению Крюгера, которым он сейчас должен был идти, требовал горячих, методических усилий. Он работал. Обхаживал свой материал со всех сторон, брал его в окружение. Все более четко выступало вечное повторение в этих людях одних и тех же черт: их собственническая жестокость, их бешеная, тупая злоба против неизбежного, против натиска индустрии на землю. Он нащупывал это, вытаскивал на свет. Он вглядывался в сделанное: оно стояло перед ним четкое и ясное, оно было сделано хорошо.
Оно никуда не годилось. Это было познание, не больше, это был все тот же очерк. Одного познания было мало: искусство начинается лишь там, где познание сливается с любовью или ненавистью. Ничто баварское не ожило. Ничего здесь не было от видения, вставшего перед ним на пути в Берхтольдсцелль. Кленку не придется отпарывать пуговиц своей куртки.
В конце сентября, когда Тюверлен в четвертый раз сызнова начинал свою работу, произошло чреватое последствиями посещение его г-жой Аметсридер.
Тетушка Аметсридер снова захватила в свои руки домашнее хозяйство племянницы. Со стороны все казалось там в полном порядке. Иоганна тихо жила на Штейнсдорфштрассе, у нее было много хорошо оплачиваемой работы, за книги Крюгера также поступали деньги. Но у тетушки Аметсридер глаза были зоркие: она отлично видела, что все это спокойствие и уверенность ровно ничего не стоили. Девочка много пережила, большую несправедливость и горькое разочарование. Когда человек все это таит в себе, это давит на душу. Тетушка Аметсридер отлично понимает, что это значит – так долго носить в себе невысказанным, как носит ее племянница, такой большой и справедливый гнев. Г-н Тюверлен, если бы только захотел, мог бы в один миг создать Иоганне какую-нибудь возможность публично излить в словах свою обиду. Человек он влиятельный, и мозги у него в порядке, хоть он и писатель. Но он просто ничего не замечает. Поэтому-то вот она