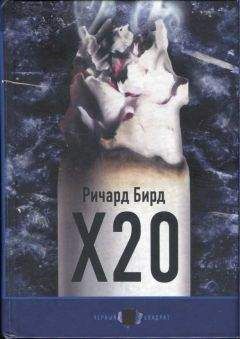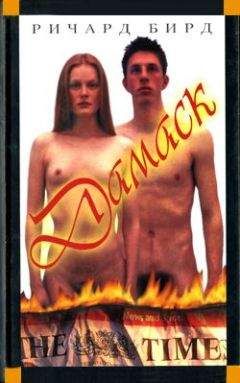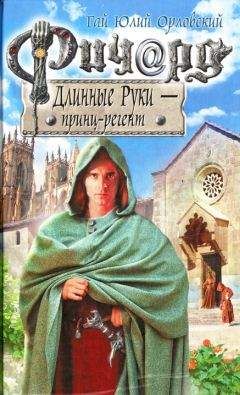Словно вокруг столпились планы Люси на будущее. Словно видение бесконечных, но исчисляемых дней без нее, когда сигареты измеряются двадцатками, и я боюсь каждой из них, потому что “курение смертельно опасно”, и “курение во время беременности вредит вашему ребенку”, и “курение вредит вашему здоровью”, и это, конечно, правда, потому что на каждой пачке написано.
Я схватил пачку, любую пачку. Это оказалась мягкая пачка “Голуаз”, и я попытался пробуравить ее взглядом. Открылась дверь, я запихал пачку поглубже в карман и отпустил совершенно незнакомому человеку сорок “Мальборо” в обмен на деньги. Пачку ему и пачку Люси (не раскисай, парень). Все произошло так быстро, что он даже не достал зажженную сигарету изо рта и оставил за собой дым и запах Люси Хинтон.
Вошел еще кто-то. “Индепендент”; 20, 40, 60 “Бенсон-энд-Хеджес”, и 20 пенсов сдачи, и “благодарю вас, мадам, вы очень добры”, и “не забывайте, что ‘курение — причина заболеваний сердца’”. Сквозь целлофан и бумагу я чувствовал округлость каждой сигареты — они были словно патроны.
“В кругу семьи”, “Сникерс”, одну “Гамлет”.
Я попытался напомнить себе, что работа — лишь передышка: просто деньги и умножение на двадцать день за днем. Но откуда тогда ощущение, будто меня заткнули в рот Люси Хинтон?
В обеденный перерыв я запер магазин и отправился в экскурсионное бюро. В поисках чековой книжки я достал из кармана “Голуаз”, и, поскольку я все еще помнил, как беспокоится мать, поскольку на моей чековой книжке было всего пятьдесят фунтов, поскольку экскурсионное бюро вот-вот закрывалось на обед и еще по нескольким важным причинам вроде этих (и каждая могла быть терпеливым и определяющим фактором моей судьбы) я купил билет на поезд до Парижа.
Парацельс родился в том же году, когда Христофор Колумб вернулся из Америки на потрепанной “Санта-Марии” с вестью, что все европейские представления о географии ошибочны. Многие наиболее продвинутые мыслители того времени начали ставить под вопрос другие отрасли знаний, бросая тень сомнения практически на все, что ранее считалось достоверным. Как врач и алхимик, Парацельс унаследовал этот радикализм.
Его незыблемая вера в то, что основа всякого зарождения — деление, привела его к улучшению тогдашних методов перегонки. Тем не менее он всегда был готов расширить область своих познаний в поисках фармацевтического эквивалента философского камня. Поэтому прекрасное знание химии уживалось в нем с восхищением пред ритуальными заклинаниями и священными реликвиями, и это передовое приятие концепции чрезмерности означало, что он нередко противоречил себе. Это, в свою очередь, делало его уязвимым для критических нападок. Известно, что его студенты называли его Какофрастом, а ревнивые коллеги нашептывали друг дружке, что он подписал завидный договор с дьяволом.
Во многом это противостояние объяснимо. Например, Парацельс первым из европейцев предположил, что “болезнь рудокопов” (ныне известная как силикоз) вызывается вдыханием металлических паров, а не горными демонами, насылающими эту болезнь в наказание за грехи, как считалось ранее. Тем не менее именно Парацельс ввел в европейский обиход слово “гном” для обозначения карликовых гоблинов, стороживших подземные запасы сокровищ. Он верил в Гоба, короля гоблинов, чей волшебный меч повлиял на меланхолический темперамент человека, хотя Парацельс же основательно пересмотрел оставшуюся еще с Ренессанса теорию соков, включив в нее пугающее тогда понятие кровообращения.
Как все великие новаторы, он готов был изучать последствия невероятного. Поэтому чуднее любых рассказов о гоблинах были для Парацельса дикие вести из Америки. В том числе отчеты свидетелей о потаенных городах, целиком построенных из золота, и мрачных печальноглазых местных жителях, глотавших огонь так же легко, как прохладную воду.
Деньги дяди Грегори изменили меня. Мне стало нравиться, что одежда, книги и то, что я ел, говорили сами за себя. Я купил черный кожаный пиджак, ботинки на толстой подошве и толстые книжки по истории. Ел в ресторанчиках, где меню написано на грифельной доске, и пил вино из кувшинчиков. С чем-то похожим на восторг открыл, что я — не просто Грегори Симпсон, сын торговцев табачной продукцией; я свободен.
Поначалу, все еще числясь в АМХ, я иногда ходил в картинные галереи. Рассматривал снимки Брассая и Лартига и неопубликованные рукописи Раймона Кено. В Оранжери видел кинетическую установку из голубой стали Жан-Пьера Риве. Перед центром Помпиду у алжирского фокусника в голых руках исчезали зажженные сигареты, а за десять франков я купил билетик, на котором было напечатано, что до 2000 года осталось еще 512 019 580 секунд. Помню выставку фирмы “Сеита” под названием “Современные пепельницы”, где я расписался в книге посетителей как Грегуар Симпсон, а поскольку книга была напечатана и переплетена в Тонон-ле-Бэн, я указал это в качестве своего адреса. Я мог быть кем угодно и откуда угодно.
Мне хотелось быть человеком, который всегда куда-нибудь идет или откуда-нибудь возвращается. Я не хотел повторения тех безликих вечеров, что я провел дома, валяясь на кровати и думая, что достаточно лишь дышать. С тех пор я понял, что ежедневный подъем по утрам не назовешь достижением, поэтому в Париже задался целью найти себе жилье. После этого я намеревался подыскать работу на неполный рабочий день, чтобы не сидеть без дела, после чего я буду отлично подготовлен, чтобы отыскать прекрасную женщину, готовую меня полюбить.
Все это казалось настолько простым и легким — вряд ли даже Люси с Джулианом поспорили бы против этого.
Думаю, они изменили состав, не сообщив мне, потому что теперь я выкуривал по две-три “Кармен” подряд, и все они оказывались либо безвкусными, либо затхлыми, либо смахивали на сильно облегченные. Они уже не приносили былого удовлетворения, и я выкуривал еще одну в надежде, что она или еще одна будет другой. Я осмотрел пачку, но двойные кастаньеты не изменились, черные на белом фоне, да и содержание смолы и никотина то же, равно как и обещание, что именно эта пачка убьет меня, как и любая другая.
Я вышел на улицу покурить — может, свежий воздух подчеркнет вкус, — и вот тогда-то я его и обнаружил: он лежал на животе, спрятав голову за деревом. Уже смеркалось. Я позвал его, но он не ответил.
— Ну же, Джейми, хватит там копошиться.
Он вылез из-за дерева.
— Я думал, ты меня не заметишь, — разочарованно сказал он, но, когда я пригласил его в дом, опять расцвел. Мне пришлось усадить его на пол, потому что пуфик занял Бананас, насторожившийся, когда Джейми посетовал на отсутствие мебели.
— Да, очень хорошо, Джейми. А теперь скажи мне, зачем ты прятался в моем саду.
— Я пришел посмотреть на привидение. Классный телик. Новый?
— Не трогай. На какое привидение?
— Сам знаешь, на привидение.
Он, конечно, имел в виду безумного профессора-вампира-поджигателя, которого столь живописно обрисовал Уолтер.
— Поджигатель, — гордо сказал Джейми, — это человек, который нарочно поджигает дома. Уолтер говорит, поэтому к тебе гости и не ходят. А летучие мыши правда спят вверх тормашками?
— Прямо так и говорит?
— И поэтому никто не купил этот дом, только ты.
— Да, спят. То есть вверх тормашками, полагаю.
— Но ты все равно не испугался, да?
— О нет, — сказал я. — Ни капельки.
— А коты едят летучих мышей?
Джейми попеременно смотрел то на Бананаса, то на тлеющий кончик моей сигареты, будто привидение в любой миг могло выхватить ее из моих пальцев и ткнуть прямо в середину пуфика. Я не стал говорить, что пуфик не воспламеняется. Вместо этого я как бы между делом спросил о Тео:
— Он все ездит в трущобы?
— Иногда, — сказал Джейми. — Покажешь мне привидение?
— А люди все поют и кричат под дверью?
— Из ЛЕГКОЕ? Конечно, — сказал Джейми. — А оно вообще разговаривает?
— А как там неукротимая глазастая дама? Тео про нее говорит?
— Возможно, — сказал Джейми, внезапно оживившись, — покажи мне привидение, тогда скажу.
— Нет никакого привидения, — сказал я.
— Тогда гони сигарету.
Я докажу, что сейчас я намного разумнее, чем несколько дней назад.
Уолтер не пришел.
Впрочем, не думаю, что он взял тут мне и умер. У меня нет и малейшего желания его убивать. Этот идиотизм — изобретение ударов судьбы, дабы оправдать курение — я уже перерос, и заслуга в этом, если таковая имеется и так далее, принадлежит, я полагаю, мне. Мое намерение было твердым. Сила моего характера стала открытием, не в последнюю очередь для меня самого. То, что физическая зависимость от никотина пропадает через два дня, — маленькая незначительная подробность.