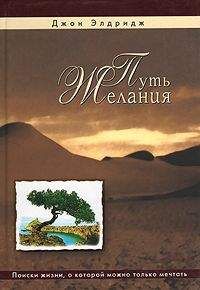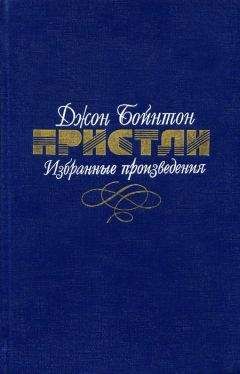- Итак, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой серьезно?
Он какое-то время как будто _собирался с мыслями_, прежде чем задать мне этот вопрос.
- Ну конечно.
- Так вот, если говорить серьезно, то неужели ты не веришь, что родители твои тебя любят? Неужели ты с младенческих лет не почувствовал их любви? Неужели они не прижимали тебя нежно к груди, когда ты еще лежал в колыбели?
Услышав эти слова, я тщетно пытался совладать с собой и, обливаясь слезами, ответил:
- Да.
- Мне жаль, дорогой мой мальчик, что ты так удручен; мне хотелось воззвать к твоему рассудку: ты ведь чрезвычайно умен; к нему-то я и обращаю эти слова, - неужели тебе может прийти в голову, что родители, которые всегда были так нежны с тобой, которые заботятся о тебе не меньше, чем о спасении души, могли проявить в отношении тебя - а именно это и явствует из твоего собственного поведения - беспричинную жестокость, потакая лишь своей прихоти? Неужели ты не задумываешься над тем, что на все это есть причина, и притом весьма основательная? Неужели чувство долга и высший разум не подсказывают тебе, что следует вникнуть в их решение, вместо того чтобы противоборствовать ему?
- Так значит, я дал им к этому основание своим поведением? Я готов сделать все что угодно, пожертвовать всем.
- Понимаю, ты готов сделать все что угодно, но только не то, чего от тебя требуют, и пожертвовать всем, но только бы не поступиться собственным желанием.
- Но вы намекнули, что есть какая-то причина?
Духовник молчал.
- Вы же сами вынуждаете меня думать о ней.
Духовник продолжал молчать.
- Отец мой, заклинаю вас вашим саном, дайте мне взглянуть на этот страшный призрак; каков бы он ни был, я не дрогну ни перед чем.
- Кроме как перед приказанием родителей. Но есть ли у меня право открывать тебе эту тайну? - сказал духовник, как бы разговаривая сам с собою. - Могу ли я допустить, что, начав с неповиновения родительской власти, ты научишься уважать чувства, которые питают к тебе твои родители?
- Отец мой, мне непонятны ваши слова.
- Дорогой мой мальчик, обстоятельства вынуждают меня действовать с осторожностью и сдержанностью, отнюдь не свойственными моему характеру, ибо, как и ты, я человек прямодушный. Мне страшно открывать эту тайну; я привык оправдывать оказанное мне доверие и не решаюсь, что-либо сообщать столь горячей и порывистой натуре, как вы. Я попал в очень трудное положение.
- Отец мой, будьте откровенны со мною и в словах и в поступках, этого требуют и мое положение и ваше призвание. Отец мой, вспомните надпись над исповедальней, которая потрясла меня до глубины души, когда я впервые ее прочел: "Господь слышит тебя". Вспомните, что господь слышит вас повсюду, так неужели же вы не будете откровенны с тем, кого он вам вверил?
Говорил я в большом волнении, да и духовник, казалось, был тоже взволнован; он провел рукой по глазам, которые были так же сухи, как его сердце. Какое-то время он молчал, а потом сказал:
- Можно ли положиться на тебя, дорогой мой? Должен тебе признаться, что, идя сюда, я собирался говорить с ребенком, а теперь вот убеждаюсь, что передо мною мужчина. Ты вдумчив, проницателен, решителен, как настоящий мужчина. Не таковы ли и твои чувства?
- Испытайте меня, отец мой!
Я не заметил тогда, что его ирония, его _таинственность_ и все горячие излияния чувств были всего-навсего хорошо разыгранным спектаклем, и во всем этом не было ни откровенности, ни заинтересованности моей судьбою.
- А что если я доверюсь тебе, мой мальчик...
- Я буду вам благодарен.
- И сохранишь все в тайне?
- И сохраню все в тайне, отец мой.
- Коли так, то представь себе...
- Отец мой, не вынуждайте меня ничего _представлять себе_... Откройте мне всю правду.
- Глупыш, неужели ты считаешь меня таким плохим художником, что я должен подписывать под изображенной мною картиной ее название?
- Отец мой, я понял значение этих слов и не стану больше вас прерывать.
- Коли так, то представь себе честь одного из самых знатных домов Испании; спокойствие всей семьи, чувства отца, честь матери, интересы религии, вечное спасение души, - и положи все это на одну чашу весов. Как по-твоему, что может все это перевесить?
- Ничто! - порывисто воскликнул я.
- Да ведь тебе и _нечего_ положить на другую чашу; прихоть мальчишки, которому еще нет и тринадцати лет, - вот все, что ты можешь противопоставить требованиям природы, общества и - бога.
- Отец мой, я проникаюсь ужасом, слушая ваши слова, - неужели же все зависит только от меня одного?
- Да, все зависит от тебя одного.
- Но как же это, я в смущении... я готов на любую жертву... скажите, что же мне делать.
- Принять монашескую жизнь, дитя мое; этим ты осуществишь желание тех, кто тебя любит, обеспечишь себе спасение души и исполнишь волю господа нашего, который ныне призывает тебя голосами твоих любящих родителей и мольбою служителя небес, который сейчас опускается перед тобой на колени.
И он действительно стал передо мной на колени.
Неожиданная выходка эта была так отвратительна и так напоминала мне напускное смирение, столь привычное в монастырской жизни, что начисто уничтожила действие его речей. Я отшатнулся от протянутых ко мне рук.
- Отец мой, я _не могу_, я никогда не стану монахом.
- Несчастный! Значит, ты не хочешь внять зову совести, увещаниям родителей и гласу божию?
Ярость, с которой он произнес последние слова, превратившись вдруг из посланца небес во взбешенного злобного демона, произвела на меня действие, противоположное тому, на которое он рассчитывал. Я спокойно ответил:
- Совесть меня нисколько не мучит, я никогда ничего не делал ей наперекор. Уговоры родителей я слышу только из ваших уст, и я не такого дурного мнения о них, чтобы думать, что они могли на это решиться. А глас божий, что находит отклик в моем сердце, велит мне не слушать вас и не порочить служение господу лицемерными обетами.
В то время как я говорил это, духовник весь переменился: выражение лица его, движения и слова - все стало другим, после горячей мольбы и неистовых угроз он мгновенно, с той легкостью, которая бывает лишь у искусных актеров, как бы застыл в суровом безмолвии. Поднявшись с пола, он предстал передо мной подобно тому, как пророк Самуил предстал перед изумленным взором Саула {7}. За одно мгновение от роли, которую он играл, не осталось и следа: передо мною был не актер, а монах.
- Так, значит, ты не примешь обет?
- Нет, отец мой.
- И не посчитаешься с негодованием родителей и проклятием церкви?
- Я ничем не заслужил ни того ни другого.
- Но ты непременно столкнешься и с тем и с другим, если будешь и дальше упорствовать в своем желании сделаться врагом господа.
- Оттого, что я говорю правду, я никак не сделаюсь врагом господа.
- Лжец и лицемер, ты кощунствуешь!
- Довольно, отец мой, такие слова не пристало произносить духовному лицу, да еще в таком месте.
- Упрек твой справедлив, и я принимаю его, хоть он исходит из уст ребенка.
Тут он опустил свои лицемерные глаза, сложил руки на груди и пробормотал:
- Fiat voluntas tua {Да будет воля твоя {8} (лат.).}. Дитя мое, беззаветное служение господу и честь твоей семьи, к которой я привязан и умом и сердцем, завели меня слишком далеко, и я это признаю; но неужели я должен просить и у тебя прощения, дитя мое, за избыток беззаветного чувства к семье, отпрыск которой доказал, что начисто этого чувства лишен?
Слова эти, в которых ирония была смешана со смирением, не возымели на меня никакого действия. Он это понял; медленно поднимая глаза, чтобы увидеть, какое впечатление он на меня произвел, он заметил, что я стою в безмолвии, не доверяя голосу своему ни единого слова, дабы оно не оказалось непочтительным и резким, не решаясь поднять глаза, дабы один взгляд их не выразил сразу все, что было у меня в мыслях.
Духовник, должно быть, почувствовал, в сколь трудном положении он очутился. Все это могло поколебать тот авторитет, которым он пользовался в моей семье, и он попытался прикрыть свое отступление, воспользовавшись всем опытом своим и начав плести сеть интриг, к которым привыкли прибегать лица духовного звания.
- Дорогое мое дитя, мы оба с тобой были неправы, я - от избытка рвения, а ты... да не все ли равно почему; мы с тобою должны простить друг друга и вымолить прощение у господа, перед которым оба мы согрешили. Дитя мое, падем же перед ним ниц, и пусть даже сердца наши распалены человеческою страстью, господь наш может воспользоваться этой минутой и коснуться нас своей благодатью, запечатлев ее в нас обоих навеки. Часто после землетрясений и вихрей звучит тихий, едва слышный голос, и голосом этим глаголет господь. Помолимся же ему.
Я упал на колени, решив, что предамся молитве один. Но очень скоро проникновенные слова священника, красноречие и сила его молитв увлекли меня, и я оказался вынужденным молиться не так, как того хотело мое сердце. Прием этот духовник приберег для конца, и расчет его оказался верен. Мне никогда не случалось слышать ничего, что так бы походило на ниспосланное свыше; когда я помимо воли прислушивался к излияниям, которые, казалось, не могли исходить из уст смертного, я начал вдруг сомневаться в благости побуждений, которые мною владели, и стал снова вопрошать свое сердце. Я не обращал внимания на насмешки духовника, я противился его страстному зову и оказался сильнее; но когда он начал молиться, я неожиданно для себя заплакал. Этот искус сердца - одно из самых тягостных и унизительных испытаний; то, что было добродетелью еще вчера, сегодня становится пороком; мы вопрошаем с тревожным и унылым скептицизмом Пилата: "Что есть истина?", а оракул, который все время давал такие красноречивые ответы, в эту минуту или вдруг умолкает, или изрекает слова столь двусмысленные, что нам страшно даже подумать, что придется вопрошать его вновь и вновь и до скончания века, а ответа он так и не даст.