молитву читает, очень умиляемся, но и очень досадуем, потому что знаем, что всякий праздник стоит денег, хоть и ради Господа нашего, тем более мы кругом немножко должны. Но я сказала мужу: „Наш благодетель тебя в яме сидеть не бросит, ты ведь акции себе оставил, не продал и не пропил, как эти все, многие даже целый месяц не просыхали с тех пор, как раздали акции, стыд и срам!“ А кто вашу щедрость понял, что вы задумали, про тех говорят: „предатели и жополизы“, а много другого я на бумаге и написать не могу ради закона и учтивости.
А муж мой говорит, что у кого такой хозяин, надо быть его достойным и понимать, чего он хочет ради пользы рабочих»…
Жан-Луи разорвал письмо и провел рукой себе по лицу.
– У тебя тик, не надо, – сказала Мадлен. Потом переменила разговор: – Я с ног валюсь, спать хочу. Господи! Девять часов только… Ты допоздна не будешь сидеть? Раздеваться будешь в уборной?
Жан-Луи любил свою библиотеку; к ней критика Ива не относилась. Там не было ничего, кроме книг: даже камин был ими завален. Он аккуратно затворил дверь, сел за стол, взвесил на ладони письмо брата. «Тяжелее прежних!» – обрадовался он. Жан-Луи аккуратно, чтоб не попортить конверт, вскрыл письмо. Как положено Фронтенаку, вначале Ив сообщал новости о дяде Ксавье, с которым вместе обедал каждый четверг. Бедного дядюшку ужасало, что его племянник селится в Париже; он всячески старался отговорить Ива. Фронтенаки делали вид, будто не понимают, почему он так этому противится. «Теперь он успокоился, – писал Ив, – понял, что Париж большой, так что племяннику не придется столкнуться с дядюшкой в обществе его подруги… А вот и нет! Я их видел недавно на Бульварах и даже пошел следом за ними. Она белобрысая, очень длинная; должно быть, лет двадцать тому назад была довольно авантажная. Можешь вообразить: они зашли в кухмистерскую Дюваля! Должно быть, он там купил сигару за три су. Меня он всегда водит к Прюнье и после десерта угощает „Боком“ или „Генри Клеем“. Дело в том, что я – Фронтенак. Представь себе, я видел Барреса…» Он подробно рассказывал об этом визите. Накануне приятель передал ему слова мэтра: «До чего же скучно! Придется создавать у этого мальчика, Фронтенака, впечатление о себе соответственно его темпераменту…» Но Ива это не расхолодило. «Я не так боялся, как великий человек, но почти так же. Мы вышли от него вместе. На улице любитель человеческих душ сразу оттаял. Он сказал мне… но я не хотел бы потерять ни единого из его драгоценных слов; так вот: он мне сказал…»
Нет, не то, что сказал Баррес, было интересно Жан-Луи. Он быстро пробежал это место и дошел наконец до того, как Ив заговорил о своей жизни в Париже, о своей работе, своих надеждах, о людях, у которых бывает. Жан-Луи перевернул страницу и невольно вскрикнул с досады. Ив зачеркнул все подряд и на этой странице, и на обороте, и на следующем листке. Мало того, что он зачеркнул каждую строчку: всякое слово совершенно скрывалось под запутанными ветвистыми каракулями. Быть может, под этими яростными вычеркиваниями скрывались тайны младшего брата. «Должно быть, можно это как-то разобрать, – думал Жан-Луи. – Есть, наверное, какие-нибудь специалисты…» Но нет, письмо Ива никак нельзя давать чужому человеку. Жан-Луи сообразил, что на столе у него лежит лупа (тоже свадебный подарок!) и принялся изучать каждое зачеркнутое слово с такой страстью, будто на карте стояла судьба государства. Лупа помогла ему лишь разобрать, каким именно образом Ив добился, чтобы исследование ни к чему не привело: между словами он вписывал наугад выбранные буквы, да еще к буквам в словах пририсовывал лишние хвостики вверху и внизу. Старший брат пробился целый час, но почти ничего так и не понял – понял только, до чего были важны эти страницы, если младший с таким усердием постарался сделать их нечитаемыми.
Жан-Луи положил руки на стол; ему было слышно, как на улице среди ночной тишины громко орут какие-то двое. Прозвенел последний трамвай на бульваре Бальгери. Молодой человек вперил утомленные глаза в письмо.
А что бы ему не сесть в авто? Будет ехать всю ночь; утром будет уже дома у брата. Увы! Один он мог уезжать только по делам. Дел подходящих на ту минуту не находилось. Ради пары тысяч франков ему случалось ездить в Париж по три раза в две недели, но поехать, чтобы спасти брата, – этого никто не поймет. От чего спасать-то?
В перечеркнутых признаниях не было, пожалуй, ничего, что очень огорчило бы Жан-Луи. Ив вымарал все это не из стыда, а из скромности. «Что для него во всем этом интересного? – подумал он. – Да он ничего и не поймет…» В последнем суждении не было никакого пренебрежения. Но издали все родные представлялись Иву совершенно простыми и чистыми. Те, среди кого он вращался в Париже, казались ему какой-то странной расой, с которой его деревенская порода не могла иметь ничего общего. «Ты бы их даже не понял, – писал он, еще не подозревая, что, не докончив письма, все замажет. – Они так быстро говорят и все время упоминают каких-то людей, полагая, что ты обязан знать, как их зовут и какие у них пристрастия в области пола. Я всегда отстаю от них на две-три фразы, смеюсь через пять минут после всех. Но поскольку принято думать, что я, в некотором роде, гений, моя медлительность тоже входит в мой образ и ставится мне в кредит. Впрочем, большинство из них меня не читали, а только притворяются. Жан-Луи, старина, мы в Бордо и подумать не могли, будто кому-то может казаться чудом, что тебе двадцать лет. Мы и не понимали, каким сокровищем владеем. В наших краях молодость не имеет хождения: это возраст неблагодарный, мусорный, время прыщей, фурункулов, потных рук и всякой мерзости. Здешние люди думают о ней гораздо лучше. Здесь на прыщи не обращают внимания – ты враз становишься „полунощным отроком“ [7]. Иногда какая-нибудь дама говорит, что без ума от твоих стихов и хочет слышать их из твоих уст, – и ты видишь, как грудь ее ходит вверх-вниз с такой быстротой, что хоть горн раздувай. В этом году перед моей „дивной молодостью“ открываются двери любых салонов – даже самых закрытых. Литература и там только предлог. На самом деле никто не любит того, что я делаю: они в этом ничего не




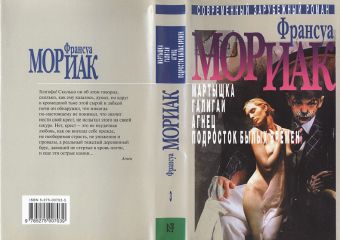
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/133897/133897.jpg)