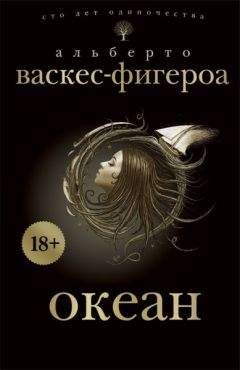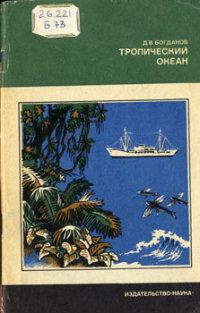– Кстати, удалось кое-что опубликовать, – сказал он. – Поищи мартовский номер «Волги».
– Обязательно поищу, – сказала я. – А вот мои стихи не печатают. Говорят: слишком грустные… Говорят: «Девушка, в каком обществе вы живёте? Ведь у нас такое хорошее, такое счастливое общество! Разве можно писать такие грустные стихи?» Не понимаю, отчего все прикидываются, будто им хорошо, всё благополучно? Мне кажется, обывателей нужно бить. Чтоб они проснулись! Иначе ничего не изменится. Никогда!
– Да, – сказал он. – Их нужно бить. Но нужно найти такую форму, чтобы они не сразу поняли, что их хотят бить.
– Да, это так.
– Послушай, почитай мне свои стихи, – сказал он.
И этими словами – в эту самую минуту! – он расколдовал меня. Мой страх речи, который мучил меня пятнадцать лет, – умер. Он растворился в морозном воздухе мартовского Самотёчного бульвара, растворился, как туман… был – и не стало.
И я прочла ему свои стихи о шутах. Те самые – с которых хотела начать (когда-нибудь!…) своё собственное выступление в манеже: «Шуты смеются сквозь слёзы. Но что увидишь под гримом?…» Мы остановились. Он глядел на меня удивлённо. И он сказал:
– Мне понравилось. Читай ещё!
И я читала:
. А что же делать,
. коль рождён шутом?
. Поэтом – под дурацким колпаком!
. Как жить, что делать,
. зная, что потом
. наверняка
. начнут хлестать кнутом!…
Мне было так легко ему читать, я испытывала истинное блаженство. Как будто всю жизнь этого хотела – и вот, наконец, это свершилось. Как будто плотина прорвалась в душе, и всё, что там копилось весь век, наконец-то вышло из темницы… НА ВОЛЮ! Спасибо тебе, мой милый Клоун! Ты – настоящий волшебник. Теперь я никогда не буду бояться читать свои стихи. И вообще, никогда в жизни не буду бояться. Ничего!
И – тут же панически испугалась. Когда он сказал:
– Я хочу поцеловать тебя.
– Зачем?! Не надо!
– Ну, пожалуйста, – улыбнулся он.
– Нет!
– Ну, скажи, что можно. А то я обижусь.
– Ну, зачем?
– А потом я скажу, зачем…
И он притянул меня к себе, и губы у него были тёплые, как тогда, в Сочи… и колючий подбородок.
– Зачем? – спросила я упрямо.
Он засмеялся ласково:
– Ну, я просто не могу не целоваться. Мне понравились твои стихи. Очень. Это – моё тебе спасибо. А ты что, обиделась?
– Да!
– Ну, не дуйся, ради Бога. Ведь всё хорошо.
И всё опять стало хорошо. Всё и было хорошо. Но я не умела принимать это хорошее: человеческое тепло, благодарность. Для того, чтобы это принять – нужно самой раскрыться. А я этого не умела. Я всю жизнь училась только одному – обороне. Мама так и говорила обо мне: «Ёж… Колючая, как ёж. Не подступиться!»
И я совершенно не была готова к такому: «Я хочу поцеловать тебя». Вот так – с бухты-барахты?! Ни с того, ни с сего?! Для меня это было слишком сильное проявление эмоций с его стороны. Слишком резкое сближение. Для меня то, что он держал меня под руку – это уже было пределом мечтаний. Пределом допустимой близости. Мог бы просто сказать «спасибо» – этого было бы достаточно для меня. Мне кажется, он понимал это. Тогда зачем решил прибегнуть к шоковой терапии? Неужели думал, что вот так – одним поцелуем – можно расколдовать «степную дикарку»? Да, в сказке про спящую красавицу одного поцелуя оказалось достаточно. Но жизнь – это всё-таки не сказка… Хоть порой и кажется совершенно сказочной… – как этот мартовский вечер…
И мы шли дальше, и он держал меня под руку, и я потихоньку приходила в себя… Вообще, эти москвичи, думала я, они все такие. Все друг с другом без конца целуются: друзья, знакомые, приятели, при встречах и прощаниях, по любому поводу… У них это как-то слишком легко получается. Но я-то была воспитана совершенно по-другому, я жила среди людей, где не было этого заведено. Да, он прав: я – дикарка.
– Ты уже не сердишься? – осторожно спросил он.
– Уже нет.
– Ну, слава Богу!
Мы дошли до площади Коммуны. Она была похожа на дно лунного кратера, припорошенная, как будто лунной пылью, – пушистым снежком…
– Ну, а теперь можно? – улыбаясь, спросил он, взял моё горячее лицо прохладными руками и тихонько поцеловал в губы. – До свидания, миленький.
Впредь он так и будет меня называть: не по имени, а – ласково: «миленький». Он как будто, как и я, чувствовал, что моё холодное имя – не моё.
* * *
…Дома была в первом часу ночи. На моё счастье, все уже спали. И никто не задавал мне вопросов: почему так поздно? что случилось? отчего ты какая-то не такая? Ну, и так далее.
А я спать не могла совершенно. Зажгла свою зелёную настольную лампу… Под ней образовался жёлтый круг света – как будто маленький манеж…
Торопясь, пока не забылось, записала каждый шаг этого дня, каждое слово: и своё, и его. А потом пришли стихи…
. Извозчику я крикну:
. – В цирк!
. И кнут
. разрежет тишь!
. Навстречу
. полетят
. зубцы
. остроконечных
. крыш.
. Сольются жёлтые огни…
. В виски
. ударит кровь.
. – Гони, дружок, гони, гони!
. Храпит лохматый конь…
. Ворвёмся
. вихрем
. на Цветной!
. Кулисы…
. Двери стук.
. Взлечу
. по лестнице
. крутой…
. – Я Вас люблю, мой друг!
И только после этого уснула…
* * *
…Когда я оборачиваюсь и вспоминаю, когда перечитываю свои давние стихи, – жизнь представляется вереницей жизней, некой тугой спиралью, неумолимо раскручивающейся куда-то в бесконечность… Будет ли, есть ли у этой спирали конечная точка?… По крайней мере: отсюда – из земного бытия – ее не видно…
Спираль жизни. Бесконечное восхождение. И нет, и не может у него быть предела. Так я чувствую теперь.
Но тогда – в девятнадцать лет…
Тогда мне казалось, что я проживаю свою самую главную, свою долгожданную и (уж, конечно!) – последнюю – наивысшую, завершающую жизнь…
* * *
Весна семидесятого года. Цирк на Цветном. Запах опилок и лошадей…
Магически притягивающий манеж. Трагический Клоун…
Ежевечернее «стреляние» билетика на старых, стоптанных ступенях цирка.
Ежевечернее изумление, восторг и трепет: «Боже мой! Как же он смеет?…»
Откуда в нём столько дерзкой отваги – называть вещи своими именами? Вглядываясь в клоунаду «Тарелки», я вскоре догадалась, что мятая жестяная тарелка, с которой он выходит на манеж, – это… зэковская тарелка! (По крайней мере, тем, кто читал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, это было понятно.) А вся клоунада – о том, как человек не может оправдаться. Хотя оправдываться ему не в чем…
В роли партнёра отчётливо виделся «гражданин начальник» – которого не задобрить, не смягчить… А разрыв в барьере манежа, до которого доходил Клоун с жестяной тарелкой под мышкой, – и отшатывался?
Трудно было не увидеть в этом разрыве ту самую непреодолимую пропасть между «тем» и «этим» берегом… Между волей и – жизнью за колючей проволокой.
Весна семидесятого. И впереди ещё почти двадцать лет, прежде чем будет позволено говорить «об этом». А Клоун говорил уже тогда. Без слов. Но и без слов всё было ясно. По крайней мере – нам: мне и моим друзьям. Для нас имя Леонида Енгибарова с той весны и навсегда – в одном ряду с именами Сахарова, Солженицына, Любимова, Высоцкого…
…А «Медали»! Кто видел эту клоунаду, не забудут её никогда. Пародия на все и всяческие медали, на всю мишуру обывательской жизни, на весь этот парадный блеск и звон, от которого темнело в глазах и закладывало уши…
О, я была в цирке 22 апреля, в день столетия вождя, когда большинство в зале сидело с юбилейными медалями на платьях и пиджаках! И я помню, помню, каким громовым хохотом награждала эта чинная публика Клоуна, увешанного с ног до головы точно такими же медалями!… Зритель хохотал до слёз, зритель ревел и топал ногами от восторга, что вот, подишь ты, шут, хохмач – а посмел! Может, и они у себя на кухне «смели», – а он посмел так, как никто другой.
Дерзко, вызывающе! Смех сотрясал старый цирк так, что, казалось, может обрушиться купол!…
А сколь благодатны были последствия этого смеха – я могла судить и по себе, и по тем, кого приводила с собой на спектакли. Мы выходили из цирка раскрепощенными, свободными!
И тоже хотелось говорить. О главном. О том, о чём вслух было нельзя. Хотелось говорить, как Мой Клоун, – молча.