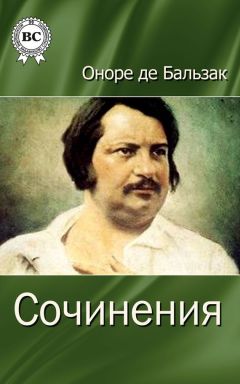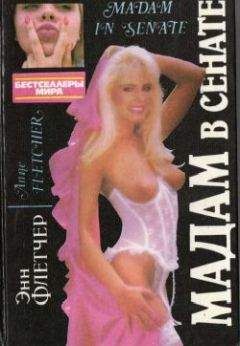– Сударь, мне никогда еще не приходилось получать судебных повесток! – воскликнул Бирото.
– Лиха беда начало, – ответил Молине.
Нескрываемая злоба старикашки потрясла парфюмера, он почувствовал, что все погибло; в его ушах зазвучал похоронный звон банкротства. Каждый удар колокола воскрешал в его памяти жестокие слова, которыми он, неумолимый законник, клеймил когда-то банкротов. Огненными знаками вспыхивали они теперь в его мозгу.
– Кстати, – сказал Молине, – вы забыли сделать пометку на векселе: «за наем помещения», а такая пометка даст мне преимущественное право на получение долга.
– Мое положение не дозволяет мне нанести в чем-либо ущерб своим кредиторам, – ответил парфюмер, потерявший голову при виде открывшейся перед ним бездны.
– Хорошо, сударь, превосходно! А я-то думал, что жильцы меня уже всему обучили по части их фокусов с квартирной платой. Теперь благодаря вам я буду знать, что нельзя принимать векселей в уплату за квартиру… О, я буду судиться, ибо ответ ваш ясно показывает, что вы не выполните своих обязательств. Случай этот представляет интерес для всех домовладельцев Парижа.
Бирото вышел от него полный отвращения к жизни. Получив отказ, люди со слабой и чувствительной душой тотчас впадают в уныние, а первый успех необычайно окрыляет их. У Цезаря оставалась теперь только одна надежда – на преданность Ансельма Попино, о котором он сразу же вспомнил, оказавшись около рынка Невинных.
«Бедный мальчик, кто бы это мог предвидеть; ведь только полтора месяца назад, в Тюильри, я помог ему стать на ноги!»
Было около четырех часов дня; судейские чиновники в это время покидают обычно здание суда. Старик Попино зашел проведать племянника. Старый служитель правосудия был знатоком человеческой души, глубоким прозорливцем; он угадывал тайные побуждения людей, улавливал скрытый смысл их самых невинных с виду поступков, зародыши преступлений, корни проступков; он испытующе посмотрел на Бирото, который этого даже и не заметил. Парфюмер досадовал, что застал у Ансельма его дядю, и, как показалось судье, был чем-то смущен, озабочен и задумчив. Маленький Попино, как всегда страшно занятый, с пером за ухом, лебезил, по обыкновению, перед отцом Цезарины. Судье почудилось, что избитые фразы, с которыми Цезарь обращался к своему компаньону, говорились просто для отвода глаз и что парфюмер пришел попросить о какой-то важной услуге. Хитрый старик продолжал сидеть в лавке, вопреки желанию племянника; он не уходил, рассчитывая, что парфюмер, чтобы избавиться от него, сам уйдет первым. Когда Бирото действительно удалился, следователь тоже вышел, но заметил, что парфюмер бродит в той части улицы Сенк-Диаман, которая ведет к улице Обри-ле-Буше. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство вызвало у него подозрение относительно истинных намерений Бирото; выйдя на Ломбардскую улицу, он увидел, что парфюмер снова зашел к Ансельму, и поспешил туда же.
– Дорогой Попино, – сказал компаньону Цезарь. – Я пришел просить тебя об услуге.
– Что я должен сделать? – с пылкой готовностью воскликнул Ансельм.
– Ах, ты возвращаешь меня к жизни, – вскричал парфюмер, обрадованный этим сердечным жаром, согревшим его среди льдов, в которых он блуждал уже с месяц. – Выплати мне пятьдесят тысяч франков в счет моей доли прибыли; о порядке платежа мы договоримся.
Ансельм пристально поглядел на него, и Цезарь опустил глаза. В этот миг снова появился следователь.
– Дорогой мой… Ах, простите, господин Бирото! Дорогой мой, я забыл тебе сказать…
Властным жестом служитель правосудия подхватил племянника под руку, увлек его на улицу и, хотя тот был в одной куртке, с непокрытой головой, повел в сторону Ломбардской улицы и заставил себя выслушать.
– Дела твоего бывшего хозяина, племянник, настолько пошатнулись, что он, возможно, вынужден будет объявить себя несостоятельным. Прежде чем решиться на этот шаг, даже самые добродетельные люди, за плечами которых сорок лет незапятнанной жизни, стремясь спасти свое доброе имя, уподобляются обезумевшим игрокам. Они идут на все: продают жен, торгуют дочерьми, губят лучших друзей, закладывают то, что им не принадлежит; бегут с отчаяния в игорные дома, лгут, притворяются, рыдают… Словом, мне случалось наблюдать самые необычайные дела. Ты же видел, каким простодушным прикидывался Роген, – воплощенная невинность, хоть без исповеди к причастию допускай. Я не распространяю этих жестоких выводов на господина Бирото; я считаю его человеком порядочным; но если он попросит тебя сделать что-либо противное законам коммерции, подписать, скажем, дружеские векселя и пустить их в обращение, – а это, по-моему, уже первый шаг к мошенничеству, ибо это – векселя фальшивые, – обещай мне ничего не подписывать, не посоветовавшись предварительно со мной. Ты любишь его дочь и уж во имя одной этой любви не должен губить свою будущность. Если господину Бирото суждено разориться, зачем же разоряться еще и тебе? Тогда вы оба лишитесь всяких шансов на успех, связанный с твоим торговым делом, а ведь оно-то и может оказаться для него прибежищем.
– Благодарю вас, дядя, мне все ясно, – сказал Попино, которому стал теперь понятен горестный возглас парфюмера.
Торговец ароматическими и прочими маслами вернулся в свою темную лавку озабоченным. От Бирото не ускользнула эта перемена.
– Окажите мне честь пройти в мою комнату, там нам будет удобнее. Приказчики, хоть и очень заняты, могут нас все же услышать.
Бирото последовал за Попино, точно осужденный, терзаемый неизвестностью, – будет ли приговор отменен или оставлен в силе.
– Мой дорогой благодетель, – начал Ансельм, – не сомневайтесь в моей преданности – она безгранична. Позвольте мне только спросить вас: достанет ли этой суммы для вашего спасения или же эти деньги только отсрочат какую-то катастрофу? Вам нужны векселя сроком на три месяца. Но через три месяца я, конечно, не смогу заплатить по ним.
Бледный и торжественный, Бирото встал и в упор посмотрел на Ансельма.
Испуганный его видом, Попино воскликнул:
– Я подпишу векселя, если вы настаиваете.
– Неблагодарный! – сказал парфюмер, вложив в это слово всю силу негодования, чтобы заклеймить им Ансельма.
Повернувшись, он направился к двери и вышел. Придя в себя от потрясения, в которое повергло его это ужасное слово, Попино бросился вниз по лестнице и выбежал на улицу, но парфюмер уже куда-то исчез. С тех пор этот страшный приговор неумолчно звучал в ушах возлюбленного Цезарины. Перед взором его неотступно стояло искаженное лицо несчастного Цезаря; словом, Попино жил, как Гамлет, бок о бок с грозным призраком.
Бирото, точно пьяный, кружил по улицам квартала. В конце концов он очутился на набережной, пошел вдоль нее, добрался до Севра; здесь обезумевший от горя банкрот переночевал в какой-то харчевне; испуганная жена не решалась его разыскивать. Неосмотрительно поднятая тревога может оказаться в подобных случаях роковой. Благоразумная Констанс подавила свое беспокойство во имя коммерческой репутации мужа; в тревоге и молитвах она прождала его всю ночь. Не умер ли Цезарь? А может быть, увлекаемый последней надеждой, он направился куда-нибудь за пределы Парижа? Наутро она вела себя так, словно причины отсутствия мужа были ей известны; в пять часов пополудни, видя, что Бирото все еще нет, она вызвала дядю и попросила его пойти в морг. Все это время мужественная женщина сидела за конторкой кассы, а дочь вышивала возле нее. Обе сохраняли непроницаемый вид и без улыбки, но и без грусти отвечали покупателям.
Пильеро вернулся в сопровождении Цезаря. Поискав его на бирже, он столкнулся с ним в Пале-Рояле, где Бирото стоял в нерешительности у входа в игорный дом. Было 14 января. Цезарь за обедом ничего не ел. От нервных спазм, сжимавших горло, он не мог проглотить ни куска. Столь же ужасны были и послеобеденные часы. Купец переживал в сотый раз тот жестокий переход от надежды к отчаянию, который, опьяняя душу гаммой самых радостных чувств, ввергает ее затем в глубочайшую печаль и совсем подрывает силы у слабых людей. Дервиль, поверенный Бирото, вошел, запыхавшись, в роскошную гостиную, где жена парфюмера, пустив в ход все свое влияние, с трудом удерживала несчастного мужа, хотевшего отправиться спать на чердак, чтобы, как он говорил, «не видеть свидетельств своего безумия».
– Мы выиграли дело! – объявил Дервиль.
При этих словах искаженное мукой лицо Цезаря просияло, но радость его испугала Пильеро и Дервиля. Жена и дочь, глубоко потрясенные, поспешно вышли в комнату Цезарины, чтобы дать там волю слезам.
– Я, стало быть, могу получить ссуду? – воскликнул парфюмер.
– Нет, это было бы неосторожно, – ответил Дервиль. – Они подают апелляцию, решение суда еще может быть пересмотрено; но уже через месяц у нас будет окончательное постановление.
– Через месяц!