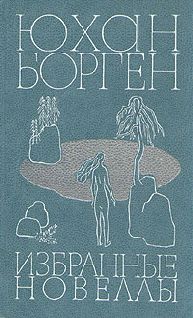Меня пригласили на первую репетицию. Предстоял публичный концерт в честь президента Пуанкаре. Вилфред проводил меня к унылому дому в стиле девяностых годов у Люксембургского сада, где должен был состояться смотр наших сил. Мы вошли в темный коридор и ощупью искали дверь или человека, который бы нам помог.
Когда глаза наши привыкли к потемкам, мы разглядели слабую полоску света в конце коридора. Оттуда, изнутри, до нас донеслись голоса. Почему-то мы вдруг застыли на месте. Послышался мужской голос:
- Опять эти чужаки тут как тут! Будто наши собственные музыканты не терпят нужду!
Мы замерли, слушая, что будет дальше. Какая-то женщина подхватила пронзительным голосом:
- И уж, конечно, еврейка. Эти евреи всюду пролезут...
Вилфред схватил меня за руку. Так крепко, что я ощутила это, хотя вся оцепенела почти до бесчувственности. Я смутно различала его лицо во тьме коридора. Он так загорел, что лицо его почти сливалось с мраком. Я стояла и думала: "Я впервые переживаю это". Конечно, я слыхала о таких вещах: дома, на родине, многое рассказывали. Я вдруг отчетливо услышала отцовский голос: "...только никогда не подавать виду... нипочем не поддаваться..." И бурные возражения моих братьев... И снова низкий, спокойный голос отца: "Ни за что не поддаваться!"
Я стояла и думала: "Вот теперь и мне довелось это пережить. И мне тоже". Одна лишь эта мысль вертелась у меня в голове, и казалось - я всегда знала, что раньше или позже это непременно случится, просто сама оттягивала, из трусости. У меня вырвался тихий стон, потом Вилфред заговорил, и я слышала слова, какими он утешал меня, но не различала их - слышала только звук, нежный, утешительный звук - лучшее средство от слез.
Разговор в зале смолк. Я прошептала:
- Я не пойду туда...
Он шепотом ответил:
- Ты должна. Ты должна сквозь это пройти. Не пройдешь сейчас...
Странно было слышать от него такие слова. Счастье борьбы как будто никогда не вдохновляло его. Впрочем, что я знала о нем?
Но я все стояла, до одурения повторяя: "Я не могу, не пойду". Все завертелось вокруг меня. Я прижала к себе футляр со скрипкой, который Вилфред отдал мне, когда мы вошли в дом. Он предполагал тут же уйти, но почему-то решил проводить меня до самого зала. Может, лучше бы ему не слышать этого? Но, может, он догадывался о том, что меня ждет? Он же всегда обо всем догадывался. Мне вспомнились вдруг газетные заголовки: "Демонстрации против засилья иностранцев". "Туристский автобус на Елисейских полях опрокинут". "Спекулянты валютой..."
Может, то была лишь случайная, вздорная вспышка ненависти к иностранцам в этом гостеприимном городе с неожиданными его причудами? Минувшим летом, в короткий период правления Эррио, франк резко упал в цене. Отдельные американские туристы вели себя вызывающе. Но, конечно, дело совсем не в этом. Не в том, что мы иностранцы...
Растерянно стояли мы в коридоре.
- Если мы сейчас отсюда уйдем, - сказал он, - битва будет проиграна навсегда, ты никогда не станешь выше этого. Ступай сейчас же в зал, а я подожду снаружи, пока не кончится репетиция.
Он говорил со мной, как человек, исполненный зрелой мудрости и заботы, но не как взрослый с ребенком. Я подумала: "Он заслужил, чтобы я его послушалась". Мы по-прежнему растерянно топтались в коридоре. Вдруг распахнулась дверь парадного. Оживленно болтая, вошли оркестранты, они смеялись, шутили. Наткнувшись на нас в темном коридоре, они испуганно отпрянули в разные стороны, извинившись тем детски игривым тоном, каким любят изъясняться французы в ситуациях, представляющихся им пикантными. Нас оттеснили к самой двери, которая вела во внутренние помещения. Поток внес меня в зал, Вилфред едва успел пожать мне руку. Моя рука была холодна как лед.
В зале устроили перекличку, потом очень долго обсуждали репертуар - в течение осени предполагалось дать три концерта, распределили голоса для первой репетиции. Во время переклички я узнавала имена многих талантливых музыкантов, о которых читала в музыкальном журнале, но большинство имен были мне неизвестны. Нас познакомили, все сердечно приветствовали меня. Все весело беседовали друг с другом. Обменивались воспоминаниями.
Я украдкой оглядывалась вокруг, пыталась догадаться - кто же мог произнести те жестокие слова: среди всех этих улыбающихся, бледных, даже измученных лиц я не увидела ни одного, способного внушить подозрение... Может, все это просто мне приснилось?
Но левая рука еще ныла - так исступленно вцепился в нее Вилфред. Синяк на руке долго будет напоминать, что все это и вправду приключилось со мной. А здесь, в зале, я обрадовалась их приветливости и сама была с ними столь же приветлива, и меня осыпали комплиментами за мой красивый загар. Музыканты были будто дети, встретившиеся после каникул. Но когда я, оглядевшись, увидела все эти бледные лица, я сама почувствовала себя чужеродным телом, барыней среди работяг. Я сказала: "В Бретани", и уже от одного этого слова повеяло роскошью. Одна оркестрантка проговорила: "Да, везет некоторым..." Остроносая, маленькая оркестрантка с кларнетом в руках. Может, это она... Я не хотела знать, не хотела больше отгадывать.
Потом, когда я вышла из зала - Вилфред все это время стоял в коридоре или вышагивал по нему взад и вперед, - все увиделось мне в ином свете. Беззаботный Буль-Миш, который всегда навевал на меня веселье... Теперь, казалось, я должна заново исследовать его дома, прохожих, прежде всегда представлявшихся мне друзьями. Я боязливо вглядывалась в лица, подмечая удивленные ответные взгляды.
Вилфред успокоительно похлопывал меня по спине, когда мы спускались вниз по бульвару:
- Неужто все еще саднит?
- Разве ты не видишь - они глядят на меня?
Я заметила, что говорю шепотом. Но он рассмеялся:
- Неудивительно! Ты же пялишься на них так, будто они - злые духи!..
Но он не мог мне вернуть мой прежний Париж.
Мы спешили на свидание с городом, но Париж не шел к нам. Или, может, мне это лишь мерещилось? Море, своеобычные жители моря - все это не отпускало меня. Проснувшись порой по ночам, я слышала шум моря и крики чаек. Но в действительности по улице грохотал мусоровоз, а крики чаек оказывались отдаленными гудками автомобилей в городе, никогда не знавшем покоя.
Потом я подолгу лежала без сна, мечтая о "потерянном крае" - стране моего счастья, о морском крае счастья с его немеркнущим блеском.
Вилфред ничего подобного не ощущал. Он чувствовал себя в этом городе привольно, будто рыба в воде. Париж был истинным его домом. Прежде Вилфред много работал здесь, но теперь нежился в объятиях лени. Париж сделал его другим человеком - уравновешенным, знающим себе цену...
И снова я пытливо вглядывалась в его лицо, когда он спал. И все больше и больше сомневалась, что он обрел душевное равновесие.
Однажды, прохладным осенним днем, гуляя, мы забрели на правый берег. Пересекли бульвар Пуассоньер. Вилфред шел, оглядывая дома, номера домов. Наконец он вытащил из кармана клочок бумаги - обрывок газеты.
- Вот странное дело, - нервно проговорил он, - ночью мне приснилось, будто какие-то люди изобрели новый способ ходьбы - "свободную походку", и кто ходит такой походкой, освобождается от всего, что его удручает, представляешь, какая чепуха? И хочешь верь - хочешь нет, только я раскрыл газету, как сразу увидел вот это объявление...
И в самом деле! Я не поверила ему. Я поняла, что он лжет. Я стояла на узком тротуаре посреди снующих взад и вперед людей и впервые в жизни - в этой моей новой, истинной жизни - сознавала, что он лжет...
- Зайдем посмотрим, - сказал он. Я взглянула ему в глаза, надеясь увидеть обычную иронию. Но глаза его горели нездоровым любопытством к этой дешевой мешанине из мистики и рационализма, столь модной в то время. В дверях нас встретил жирный зазывала в униформе с галунами.
Все помещение было серое, цементного цвета. От стены к стене тянулись три висячих мостика, будто в тренировочном зале цирка. По колеблющимся мостикам шагали люди - по одному на каждом мостике, - и ледяной женский голос командовал: "Стой! Вперед! Стой! Вперед!.. Кругом!.."
Во мне все переворачивалось: я очень мало знала о декадансе, а также о всяких программах здоровья, порожденных декадансом; я была молода, влюблена, возбуждена счастьем и страхом перед бедой, которая может разразиться вдруг, как гроза в солнечный день.
Пригласили следующую тройку. Вилфред поднялся по металлической лестнице. Я видела, как он вышел на висячий мостик и зашагал по нему уверенными, танцующими шагами. Он остановился, потом сделал поворот и еще один поворот, пошел дальше и снова остановился. Глаза его сверкали, отражая холодный свет, лившийся с потолка, с холодного, серого, как цемент, потолка.
Все переворачивалось во мне. Но я услышала одобрительные возгласы хозяйки аттракциона: "Вот так новичок! Взгляните-ка на мсье! Вот пример для вас, господа! Истинный мастер!.."