в первый раз: какие-то советы, пожелания быть осторожнее, поцелуй; она бы проводила его на лестницу, свесилась бы через перила, смотрела бы, как он идет вниз, пока не скроется… Впрочем, хоть он ее и не повидал, но слышал в телефоне; он ее хорошо понимал, а она, бедняжка, слышала его очень плохо. Он спросил Жан-Луи, успела ли она вспомнить о нем. Нет: своего «парижанина» она собиралась увидеть и больше, как казалось, думала о Жозе – ведь он был в Марокко. Наконец слезы Ива брызнули из глаз, и Жан-Луи от этого полегчало. Он смотрел на комнату, которая с вечера была еще в беспорядке, где цвет дивана и подушек указывал на русскую моду этого сезона, но ее обитателя, думал Жан-Луи, это радовало, должно быть, всего несколько дней: было понятно, что он к таким вещам равнодушен. На один миг Жан-Луи изменил покойной матери ради живого брата; он сосредоточенно разглядывал все вокруг себя – искал каких-нибудь следов, знаков… На стене лишь одна фотография: Нижинский в «Призраке розы». Жан-Луи перевел взгляд на Ива; тот стоял у камина – худенький, в голубой пижаме, растрепанный; когда он плакал, у него была такая же рожица, как в детстве. Брат ласково велел ему пойти умыться, остался один и продолжал вопрошать взглядом эти стены, этот стол, усыпанный пеплом, это прожженное сукно.
Сколько было в приходе священства и певчих – все шли перед дрогами. Ив шагал вместе с братьями и дядей Ксавье и глубоко чувствовал, как нелепы их осунувшиеся лица на яростном солнце, его костюм, его атласная шляпа (Жозе был в мундире колониальной пехоты). Ив разглядывал физиономии прохожих на тротуаре, эти жадные женские взгляды. Ему не было ходу, он ничего не чувствовал, слышал только обрывки разговора, который вели позади него дядя Альфред и Дюссоль. (Дюссолю сказали: «Помилуйте, вы же член семьи! Вы пойдете сразу следом за нами…»)
– Она была смышленая женщина, – говорил Дюссоль. – Я лучшей похвалы не знаю. Я даже так скажу: она была женщина деловая. А будь у нее муж, который ее воспитал бы, то непременно стала бы деловой.
– Женщина, – заметил Коссад, – в коммерции может позволить себе много такого, что нам не дозволено.
– А скажите, Коссад: помните ее после дела Метери? Вы знаете того нотариуса, который сбежал, прикарманив деньги. Она тогда потеряла шестьдесят тысяч франков. Пришла ко мне среди ночи и уговорила пойти вместе с ней к госпоже Метери. Бланш тогда заставила ее подписать признание долга. Дело было серьезное. Без характера ничего не добьешься… Потом она десять лет судилась, но в конце концов получила все сполна и преимущественно перед прочими кредиторами. Вот это было здорово.
– Все так, но она много раз нам говорила: если бы речь шла не о деньгах ее детей, которые были у нее под опекой, она бы никогда на это не осмелилась.
– Может быть, может быть; ведь иногда на нее нападала болезнь совестливости – ее единственное слабое место…
Дядя Альфред, изобразив благочестие на лице, возразил, что «это-то в ней и было восхитительно». Дюссоль пожал плечами:
– Помилуйте, не смешите меня. Я сам человек порядочный; когда хотят поставить фирму в пример честности – называют нашу. Но мы все знаем, что такое коммерция. И Бланш этим занималась бы. Она любила деньги. Ей стыдно не было.
– Землю она больше любила.
– Землю она любила не саму по себе. Для нее земля была эквивалентом денег, как банковские билеты, только она считала, что земля надежнее. Она уверяла меня, что и в хороший, и в дурной год, если посчитать за вычетом всех расходов, имения приносят ей четыре с половиной-пять процентов.
Для Ива мать оживала вечером на крыльце под соснами Буриде; он видел, как она идет к нему с четками в руках по большой аллее парка, или же воображал ее себе в Респиде, как он с ней среди сонных холмов говорит о Боге. Он отыскивал в памяти ее слова, говорившие о ее любви к земле, – и таких слов пробуждалось множество. Да и перед самой смертью, рассказал Жан-Луи, она показала на июньское небо за раскрытым окном, на деревья, в которых пели птицы, и сказала: «Вот чего мне жаль…»
– Говорят, – продолжал Дюссоль, – это были ее последние слова; она показала на свои виноградники и сказала: «Как жаль такого прекрасного урожая!»
– Нет, мне говорили, что она имела в виду вообще природу, красоту…
– Это сыновья говорят (Дюссоль понизил голос); они поняли по-своему – вы же их знаете… Жан-Луи – что с него взять! А я считаю, так гораздо красивее: урожай, который она не успела собрать, виноградник, который целиком обновила, – она по своему добру плакала… Это вы у меня из головы не выбьете. Я ее сорок лет знал. Вообразите: однажды она мне жаловалась на сыновей, а я ей сказал: вы курица, которая высидела утят. Уж как она смеялась!
– Нет-нет, Дюссоль: она ими гордилась, и по праву.
– С этим я не спорю. Но когда Жан-Луи утверждает, будто ей нравилась галиматья Ива, – это просто смешно. Да ведь эта женщина была воплощенный рассудок, уравновешенность, здравый смысл! Послушайте, мне сказки рассказывать не нужно. Во всех моих разногласиях с Жан-Луи насчет участия в прибылях, заводских советов этих и всей прочей чепухи я всегда мог понять, что она на моей стороне. Ее очень тревожили «мечтания» сына, как она их называла. Она очень просила меня не судить его строго. «Обождите, – говорила она, – дайте срок: вы увидите, какой это серьезный мальчик…»
Ив уже не думал о своей нелепой одежде, о лакированных туфлях, уже не наблюдал за лицами людей на тротуарах. Он медленно, опустив голову, двигался в этой цепочке, заключенный между катафалком и Дюссолем (одно уловленное слово позволяло догадаться, какие ужасные вещи тот говорил). «Она любила бедных, – думал Ив. – Когда мы были маленькими, она водила нас по вонючим лестницам; она помогала раскаявшимся блудницам… Все в моих стихах, что касается детства, она никогда не читала без слез…» Голос Дюссоля звучал беспрерывно:
– Все маклеры у нее по струнке ходили. Уж у нее в расписках всегда было чисто, и никогда ни дисконта, ни куртажа…
– А скажите, Дюссоль, видали вы когда-нибудь, как она принимает квартирантов? Даже не пойму, как ей удавалось добиваться от них уплаты всех недоимок…
Ив знал от Жан-Луи, что было совсем не так: договоры найма продлевались вопреки всякому здравому смыслу, невзирая на удорожание недвижимости. Но он все равно не




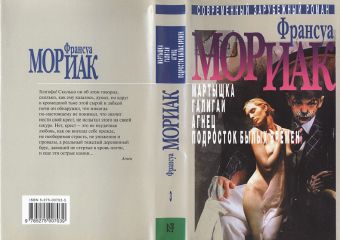
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](https://cdn.my-library.info/books/133897/133897.jpg)