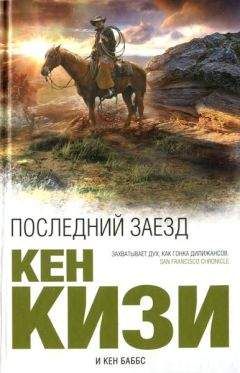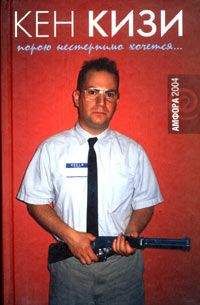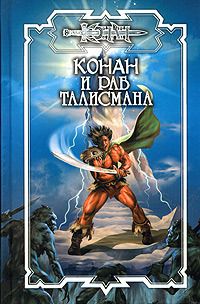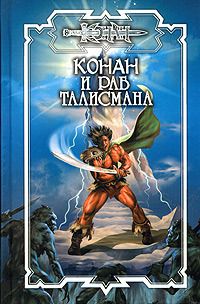Они ведут меня через парк на свою стоянку. Девушки суетятся, в пьяном беспокойстве о моем здоровье. Соловая блондинка даже предлагает мне свой билет, если я позволю отвезти себя к врачу. «Мой отец забронировал лучшие места на трибуне». Номер Девять готов спорить, что у Выживающих лучше. Говорит, что у них отдельная кабина с многоканальным телевидением. Девушки говорят, что должны это увидеть, и мы идем через ворота, мимо зигзагом расставленных вигвамов, к наблюдательному пункту, туда, где сетчатая ограда отгораживает индейскую стоянку от дороги, подводящей к коридорам. Более жаркого и пыльного места они найти не могли.
У них действительно много экранов, хотя не совсем кабина. Вплотную к ограде стоит большой телевизионный трейлер «Мира спорта», и его задняя дверь полностью открыта ради ветерка с реки. Выживающие натырили основательную пирамиду сена и протянули к ее макушке черный пластик. Получилась тенистая пещерка, и мы можем видеть сквозь сетку всю работу телевизионщиков. Девушки соглашаются, что место удачное. Пухленькая достает из сумки поллитровку текилы, Чинёное Колено вытаскивает из сена арахис и лимоны, и мы рассаживаемся поудобнее. Люди в трейлере обращают на нас внимания не больше, чем если бы мы были курами на насесте.
На мониторах мы видим происходящее на арене с разных точек и слышим голос диктора. По телевидению он доносится до нас на добрых полторы секунды раньше, чем по воздуху из громкоговорителей. «Женские скачки, друзья… и похоже, миленькая…» — и тут же эхом с арены: «ЖЕНСКИЕ СКАЧКИ, ДРУЗЬЯ… ПОХОЖЕ, МИЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА В ГОЛУБОЙ ШЛЯПЕ УЛЕТАЕТ С ГОЛУБОЙ ЛЕНТОЙ».
— Да, но не очень высоко в плане рейтинга, — слышится из трейлера, — Скучно, не увлекательно, — Это говорит женщина с острым подбородком. Она сидит во вращающемся кресле.
— Традиция, — говорит помощник, вьющийся у нее за спиной; у него мешки под глазами и мешковатый велюровый свитер, — Женские скачки у них с самого первого родео.
— Традиционное это еще не телевизионное, — сообщает она ему, — У нас нет ничего поживее?
Он смотрит в блокнот.
— Следующий номер — езда на быке. Самый забойный. И смотрите-ка. Первым — наш удалец из Уоттса.
— Этот нахальный коротыш с пресс-конференции?
— Он самый. В роскошной красной шляпе. Возьмем его ручной камерой.
— Лучше нахальный, чем скучный. Давай, — Она поворачивается к микрофону. — Феликс? Держи мне черного наездника.
Это заставляет меня присмотреться внимательнее. Может быть, все-таки придется сравнивать лица.
— Возьми ручной, Феликс. Мне нужен крупно молодец из Уоттса. Он будет выходить из коридора номер…
Диктор подсказывает ей:
— А теперь в коридоре номер два на бычке Колыбельный братьев Кристенсен лошадка совсем другой… э-э… породы. Впрочем, друзья, любой завзятый любитель родео знает, о ком я говорю: Дрю Вашингтон. Один из популярнейших молодых ковбоев, прирожденный чемпион, если я что-нибудь в этом смыслю. В прошлом году Дрю занял второе место, сегодня после двух дней он идет первым с большим отрывом. Единственное, что ему нужно сейчас, — усидеть до конца. Никаких трюков. Если он продержится до колокола, то не только будет первым — он будет первым представителем своей расы, завоевавшим призовое седло, после бессмертного черного ковбоя, победителя первого Пендлтонского родео.
Тут я вскочил как ошпаренный:
— Придержи коней! Джордж Флетчер на нем не победил!
Оператор занял позицию у второго коридора, но между досками мы видим только ступню наездника. На ней потрепанная кроссовка со шпорой, примотанной к резиновой пятке. Изображение колышется и подпрыгивает в щели между досками.
— Похоже, Дрю трудновато держаться на старине Колыбельном, даже в кроссовках. Что ты сказал, Тайфун? — Он ведет разговор с клоуном [6] на арене, — Спрашиваешь, почему столько наших ковбоев стали носить кроссовки вместо сапог? Я не знаю ответа. Может, ты мне скажешь, Тай? А, понял: чтобы их не путали с дальнобойщиками.
Публика стонет.
— Хорошо, Тайфун, вот тебе задача. Можешь сказать, у кого Флетчер выиграл призовое седло. Правильно. У Джексона Сандауна, бессмертного Красного Всадника, индейца нез-персэ. Впоследствии Джексон Сандаун… Смотрите! Вот он выбежал. Взрывной бык, короткий запал. Держись, ковбой!
Бык вылетел из коридора, шляпа наездника заполняет экран, бешено подпрыгивая. Я прильнул к сетчатой изгороди, но вижу только неясное мелькание этой пурпурной шляпы, сдвинутой набекрень, и под ней — дерзкую улыбку. Но гибок, я вижу. До поры ты был гибок, как дым.
— На третью! — шипит начальница в микрофон, — Третья камера, фокус! Мне надо больше лица! Дай больше лица и фокус!
Камера с другой стороны арены берет наездника крупным планом. Диктор не умолкает.
— Злой бык, крепкий всадник. Иихоу! Дрю Вашингтон из Уоттса, леди и джентльмены, козырной туз, прирожденный чемпион! И вот колокол! Он удержался, друзья! Он победил! Впервые за полвека с лишним мы, кажется, получили… надеюсь, вы понимаете, друзья, что я не имею в виду абсолютно ничего оскорбительного, — просто таким именем наградила его история… — И мы слышим дважды, сперва из трейлера, а потом из громкоговорителей на арене: — Второго НИГЕРА ДЖОРДЖА ФЛЕТЧЕРА!
И тут я увидел, как гибкость тебе изменяет, — увидел даже на этих маленьких телеэкранах.
— Абсолютный чемпион этого года, обладатель главного…
Тысячеголосый вздох толпы, и ликование диктора сменяется ужасом.
— Не может быть! Он повис. Повис! Давай же, Дрю. О боже, его прижало, головой назад.
Экраны показывают все в подробностях, с разных точек: как жесткую перчатку захлестнула веревка и прижала поперек тела… как рука в локте согнута под неестественным углом… как бьется голова о широкий бок быка, сильно, раз за разом. Лихая шляпа отлетает, и открылось детское лицо, искаженное болью и страхом. Наш чемпион — всего лишь мальчик, тощий паренек, и болтается, как тряпичная кукла. На выручку бросаются клоуны, потом верховые помощники. Только четырьмя лассо удается остановить быка, чтобы высвободить руку из-под веревки. Потом сирена и мигающий свет. Пока медики осматривают повреждения, телевизор показывает замедленные повторы. Диктор сообщает подробности.
— Вот когда это произошло. Наездник — левша и почему-то спешивается слева… и его прижимает к левому боку животного, спиной. Вот! О! О боже! Бык подбрасывает его… и опять!.. Колыбельный, один из самых ярых быков во всем родео… О боже мой…
Самых ярых во всем родео, о боже, о боже мой. Я был рад, что под руками ограда. От сирен, от замедленных повторов у меня помутилось в голове. Надо было старой кляче пить крепкий виски под жарким солнцем и на пустой желудок? Нет, не надо было. Я понимал, что надо сесть и успокоиться, но хотел увидеть. Больше лица, как режиссерша. И когда с воем в пыли выехала «скорая помощь», я, как идиот, побрел за ней вдоль изгороди. Не знаю, чего я хотел — остановить ее, повернуть в другую сторону? Знаю только, что совсем не хотел оказаться через несколько минут в такой же, под завывание сирены. И в итоге — снова в проклятой пендлтонской больнице, на обследовании, вслед за тобой… снова в прошлом, с вереницей мыслей о нем: пар… свисток паровоза, назад по ржавым рельсам памяти.
Паровозный этот свисток был давно, чуть ли не, черт его, в другом веке. До всякой Второй мировой и Первой мировой, и подавно до «Мира спорта». Впервые кто-то из нашей семьи пересек линию Мейсона — Диксона [7], а тем более забрался так далеко на север, и я гордился тем, что этот кто-то я, младший сын, семнадцатилетний, ясноглазый, как младенец, и почти такой же наивный.
Этот новый мир я наблюдал через щель между досками в открытом скотском вагоне. Путешествовал я без роскоши, но устроился с удобствами. Тощий зад мой покоился на свежей соломе, голова — на седле. Я лежал босиком и с удовольствием шевелил грязными пальцами ног в воздухе, насыщенном золой. За многокилометровый путь у меня все перепачкалось золой, кроме сапог. О сапогах была особая забота, их защищали от золы и ветра ящики и брезент. Они сияли, несмотря на зольный ветродуй. На голенищах спереди был вытиснен конфедератский флаг, они сияли от многократных чисток. Время от времени я и здесь их протирал. До Пендлтона оставалась еще ночь езды, и я хотел выступать там в блестящих.
Паровоз снова свистнул, и между досок я увидел, по какому случаю он свистит.
— Антилопы, Стони! Вилорогие антилопы! Посмотри, как бегут!
Рядом со мной стоял мой конь Стоунуолл [8]. Он широко расставил ноги из-за качки вагона и смотрел поверх последней доски, заложив назад уши. Стоунуолл был большой серый мерин, шестнадцати ладоней [9] ростом — в самый раз для такого долговязого всадника, как я. Нрава капризного и подозрительного, но надежный на длинных перегонах — даже по железной дороге. Мы выросли и сдружились в Теннесси.