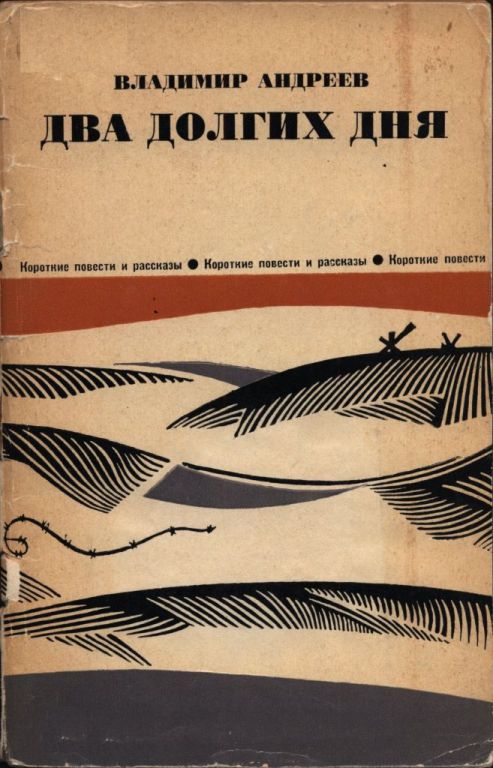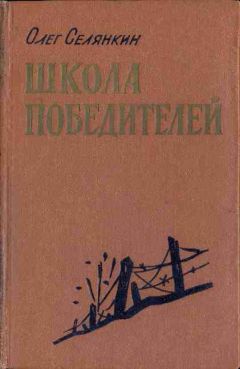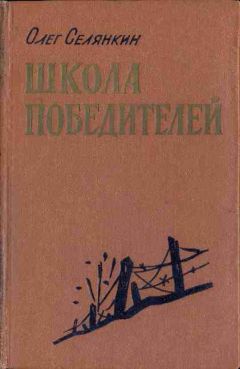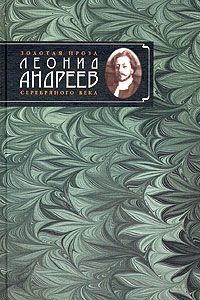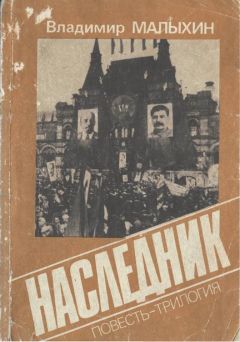кустарником у самого леса — лес там идет сплошняком, и до него около километра. «Через болото, конечно, можно пройти, — размышляет сержант. — Болото тут с изъянами. Если немцы нащупают тут, тогда…»
Селезнев поворачивается и видит, как Забелин с Шиниязовым машут лопатами. Симоненко в окопе занят своим пулеметом.
«Если немцы сунутся через лощину, — на Симоненко и на его пулемет вся надежда. Тарабрин тоже не подведет. А вот эти двое, черт их знает!»
Особенно беспокоил сержанта Шиниязов, он после контузии страдал глухотой и о том, что говорят люди, догадывался больше по движению губ. Ему говорят: иди к старшине, а он топает к командиру роты, его просят принести патроны, а он приносит винтовку… Самолеты бомбят, все бегут в окоп, а он сидит себе недалеко от бруствера и, пока не увидит, что кругом пусто, не догадается спрятаться. Перед тем как идти сюда, Селезнев взмолился:
— Товарищ старший лейтенант! Ну вы же видите. Ну, какой это солдат. Дайте другого…
— Ничего, ничего, — успокаивал командир роты Селезнева. — Там у тебя полегче. Ничего… Если стрельба будет, услышит. Погромче говорите с ним, все будет в порядке…
Так и пришлось согласиться. Да и как ты не согласишься, когда командир приказывает. Может, и в самом деле у них ничего не случится. А там, конечно, главное, там переправа…
Селезнев последний раз глубоко затягивается и бросает цигарку далеко в траву. Еще некоторое время сидит и неподвижно смотрит, как вьется из травы синий дымок от окурка. Ни ветерка, ни облачка — тонкая струйка дыма колеблется, расплываясь в воздухе.
Сержант берет портянку, машинально встряхивает ее, обувается, натягивая с усилием хромовый, сшитый без всякого запаса сапог. Обувшись, спускается в окоп.
— Ну, как у тебя тут, Симоненко? Поставил?
— Порядок, сержант, — Симоненко отступает в сторону от пулемета.
Селезнев, обхватив приклад, приникает к пулемету. Наводит в сторону лощины, в одну точку, в другую. Потом, выпрямившись, говорит задумчиво:
— Понимаешь, оттуда они не полезут, — он протягивает руку, показывая на ту часть лощины, которая ближе к реке. — Тут утонуть можно. А вон там, видишь, кустики и еще правее березка. Там могут. Хоть и болото. Понял? Пристреляй по-малому. И еще этот взгорок. Пэтээровцы за ним. Но все же… Дай-ка я попробую.
Селезнев снова обхватывает приклад, и через минуту короткий сухой треск разрывает воздух. Потом ствол пулемета еле заметно отводится вправо — и снова короткая очередь. Ничто кругом не шелохнется, только с маленькой, причудливо изогнутой березки будто кто-то вспорхнул; плавно, как взмах руки, пошел книзу сучок и повис, не до конца отсеченный пулей.
— Вижу, сержант, — произносит Симоненко и хочет склониться к пулемету.
— Подожди. Пойдем сюда.
Они проходят по окопу вправо, к крайней его точке. Сержант кладет руки на бруствер.
— Здесь тоже подготовь. Понял?
Потом проходят влево, и сержант опять повторяет:
— Здесь тоже…
Неожиданно взгляд Селезнева задерживается на привольно лежащем неподалеку Тарабрине. Усмешка пробегает по лицу сержанта.
— Тарабрин, ты не заснул? Ну-ка подмени Шиниязова, — кричит он и думает: «Почему Шиниязова? Забелин слабее. Надо бы его». Но он недолго разбирается в тонкостях своего отношения к этим двум солдатам. — Кончайте скорее, — добавляет он сурово.
Стучат лопаты о землю. Слегка наносит от окопа утробной сыростью. Селезнев снова закуривает и идет к обрыву, за которым течет река. Мелкие кустики ольховника мягко тянутся по вершине склона. Река серебрится в лучах солнца, рябит у противоположного берега, где под старыми ивами дремлет маленький заливчик. В осоке раздается всплеск, будто вспышка неведомого выстрела ослепляет глаза. «Ишь разыгралась, — думает Селезнев и тут же уточняет: — Всего скорее щука…» Несколько минут он смотрит на воду, не всплеснет ли где еще, потом медленно шагает обратно к солдатам.
Ну вот и готов окоп. Три шага в одну сторону, три — в другую. Если сверху взглянуть, он немного похож на опрокинутую латинскую букву «S». Маскировка закончена, пулемет установлен и хищно смотрит в сторону лощины.
Солдаты, закончив работу, поели и, разморенные теплым солнцем, лежат около кустиков на шинелях. В окопе только Шиниязов — он дежурит.
Где-то глухо стукает артиллерия, глухо и непонятно: наши бьют или немцы. Разрывов не слышно. В кустах порхают серые маленькие пичуги.
— Эх… — глубоко вздохнул Симоненко, мельком взглянув вокруг.
Синий махорочный дым ползет от Тарабрина. Забелин не курит, он лежит на шинели боком, повернувшись лицом к кустам. Худые, костлявые ноги в широких голенищах, и весь он неповоротливый, угловатый, как подросток.
Говорить никому не хочется, все устали, желудки пока полны, сержант, слава богу, лежит спокойно рядом и не ищет им никакого занятия. Состояние такое, когда и не уснешь, и делать ничего не сможешь. Самое лучшее лежать вот так и глядеть вверх, на небо, на кусты, на ржаное поле, на все это знакомое родное раздолье.
Бросив цигарку, Симоненко вздыхает и тянется к вещевому мешку. Мешок старый, в масляных пятнах. Симоненко морщится, распутывая узел, что-то бормочет про себя. Но никто вокруг, кроме Забелина, не обращает на него внимания. Всем давно известно содержимое этого мешка. Белый кусок ткани, выданный недавно на портянки. Симоненко извлекает его из мешка и кладет аккуратно рядом. Чистая нижняя рубашка — как ему удалось утаить ее от старшины? Два носовых платка с зеленой каемочкой по краям, взятые еще из дому. Кусочек черного мыла…
Тарабрин косит глазом на растущую около Симоненко груду тряпья.
— Все боишься, чтобы моль не завелась?
— А как же. Чтобы моль… — добродушно отвечает Симоненко, доставая из мешка завернутый в газету и перетянутый крест-накрест резинкой пакет. Шуршит разворачиваемая бумага. В руках у Симоненко пачка писем. Замусоленные треугольники и конверты. Симоненко про себя читает адрес, потом не спеша разворачивает, нахмурив широкий лоб, сосредоточенный и серьезный, как будто эти письма он получил только сегодня.
Тарабрину поведение Симоненко кажется смешным, в другое время он бы, возможно, начал подтрунивать над товарищем, но