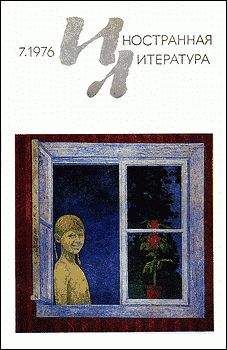- Что ж, мне будет очень приятно ваше общество, - сказала она, - но я здесь лишь потому, что Чаки Юинг, руководитель оркестра, - мой муж, и, когда у меня нет лучшего занятия, я просто прихожу сюда, чтобы убить время.
Мозес пересел к ней и заказал для нее вина. Бросив несколько прощальных взглядов на свое отражение в зеркале, она принялась говорить о своем прошлом.
- Когда-то я сама пела с оркестром, - сказала она, - но в основном я готовилась к оперной сцене. Я пела в ночных клубах по всему миру. Париж. Лондон. Нью-Йорк...
Она говорила не шепелявя, но с какими-то детскими интонациями. Волосы у нее были чудесные и кожа белая, хотя главным образом из-за пудры. Мозес понимал, что прошло уже пять-шесть лет с тех пор, как ее можно было называть красивой; но она, видимо, твердо решила вести себя так, словно ее прежняя красота не исчезла, и он готов был соглашаться с ней.
- Конечно, на самом деле я не профессиональная актриса, - продолжала она. - Я училась в пансионе, и мои родные чуть не умерли, когда я начала выступать на сцене. Они очень строгих нравов. Старинный род и тому подобное. Пещерные жители.
Тут оркестр смолк и к ним подошел ее муж; она познакомила его с Мозесом, и он сел к их столику.
- Что ты насчитала, милая? - спросил он у жены.
- За столиком в углу пьют шампанское, - ответила она, - а шесть джентльменов у эстрады пьют водку. Каждый уже выпил по четыре стопки. За двумя столами пьют шотландское виски и за пятью - пшеничное; а по ту сторону эстрады пьют пиво. - Она считала столы по пальцам, продолжая говорить самым нежным голосом. - Не беспокойся, - сказала она мужу. - Вы отхватите сотни три.
- Где участники съезда? - спросил он. - Сейчас происходит съезд.
- Я не знаю, - сказала она. - Простыни и наволочки. Не беспокойся.
- Есть у вас какие-нибудь горячие кухонные отбросы? - спросил он официанта, подошедшего к их столику.
- Конечно, сэр, конечно, сэр, - ответил официант. - У меня есть чудесные горячие отбросы. Могу подать кофейную гущу с подливкой из колбасного жира; а как вы относитесь к превосходным лимонным коркам под опилками?
- Звучит неплохо, - сказал руководитель оркестра. - Пусть будут лимонные корки под опилками.
Когда он подошел к столику, у него был встревоженный и печальный вид, но болтовня с официантом его развеселила.
- А есть у вас какие-нибудь помои? - спросил он.
- У нас есть всякие помои, - сказал официант. - У нас есть жирные помои и есть помои с плавающей в них дрянью, у нас есть также нафталиновые шарики и мокрые газеты.
- Ну, дайте мне немного мокрых газет к моим опилкам, - сказал руководитель оркестра, - и стакан жирных помоев. - Затем он обернулся к жене. - Ты идешь домой?
- Наверно, пойду, - нежно сказала она.
- Ладно, ладно, - сказал он. - Если участники съезда появятся, я буду поздно. Приятно было познакомиться с вами.
Он кивнул Мозесу и вернулся на эстраду, куда по проходу между столиками начали собираться остальные музыканты.
- Могу я вас проводить? - спросил Мозес.
- Право, не знаю, - ответила она. - У нас здесь поблизости небольшая квартирка, и я обычно хожу пешком, но думаю, вреда не будет, если вы меня проводите.
- Пошли?
Она взяла свое пальто у гардеробщицы и поговорила с ней о четырехлетней девочке, заблудившейся в лесах Висконсина. Девочку звали Памела. Прошло уже четыре дня, как она исчезла, и были организованы многочисленные группы для ее поисков. Обе женщины с глубоким волнением обсуждали вопрос, жива ли еще маленькая Памела или умерла от холода и голода. Когда этот разговор кончился, Беатриса - так ее звали - направилась к выходу, но гардеробщица окликнула ее и дала ей бумажный мешочек.
- Здесь две палочки губной помады и несколько заколок, - сказала она.
Беатриса объяснила, что гардеробщица следит за дамской уборной и отдает ей все, что там забывают. Она, видимо, стыдилась этого уговора, но через секунду оправилась от смущения и взяла Мозеса под руку.
Их квартира была около "Марин-Рум", во втором этаже, и состояла из одной комнаты - спальни, где господствовал большой шкаф из прессованного картона, который, казалось, вот-вот должен был развалиться. Она с трудом открыла одну из перекосившихся дверок и продемонстрировала свои дешевые туалеты - сотню платьев всех фасонов. Потом ушла в ванную и вернулась в немыслимом китайском халате с драконами, вышитыми такими нитками, которые показались колючими обнявшему ее Мозесу. Она легко уступила, но, когда все было кончено, немного поплакала в темноте и спросила:
- О дорогой, что мы наделали? - Ее голос звучал так же нежно, как всегда. - Всем я нужна только для одного, - сказала она, - но я думаю, это потому, что я была так строго воспитана. Меня воспитывала гувернантка. Ее звали Кленси. О, она была такая строгая! Мне никогда не разрешали играть с другими детьми...
Мозес оделся, поцеловал ее на прощание и вышел из дома, никем не замеченный.
19
У себя на ферме Лиэндер обложил фундамент старого дома морскими водорослями и нанял мистера Плузински привести в порядок сад. Сыновья писали ему один или два раза в месяц, а он писал им обоим каждую неделю. Ему очень хотелось повидать их, и часто, попивая виски, он думал о поездке в Нью-Йорк и Вашингтон, но при утреннем свете не находил в себе решимости снова покинуть Сент-Ботолфс. В конце концов, он уже повидал мир. Он подолгу бывал один, так как Пулу три дня в неделю проводила в поселке у своей дочери, а миссис Уопшот три дня в неделю работала продавщицей в магазине подарков Анн Мари Луиз в Травертине. По выражению лица Сары всем должно было быть ясно, что она делала это не потому, что Уопшоты нуждались в деньгах. Она делала это потому, что ей так нравилось, и это была правда. Вся энергия, которой она обладала - и которую она так хорошо применила ради благоденствия поселка, - в конце концов как бы сконцентрировалась на увлечении торговлей подарками. Она хотела открыть торговлю подарками в парадной гостиной дома на ферме. Она просто мечтала об этом проекте, но Лиэндер даже не собирался его обсуждать.
Трудно сказать, почему идея торговли подарками возбуждала, с одной стороны, у Сары волю к жизни, а с другой - у Лиэндера самое глубокое презрение. Когда миссис Уопшот стояла у прилавка, заставленного вазами цветного стекла, и дарила елейными улыбками друзей и соседей, заходивших в магазин, чтобы потратить немного денег и провести время, ее душевное равновесие, по-видимому, ничуть не страдало. Эта любовь к торговле подарками, эта склонность к украшениям, возможно, возникла из-за унылого вида и скудости здешнего побережья, а возможно, была проявлением вполне естественной тяги к мелким чувственным радостям. Когда по поводу салатной вилки с ручной резьбой или расписанного от руки стакана Сара восклицала: "Разве это не прелесть?!" - она была совершенно искренна. Болтовня и присутствие постоянных покупателей делали ее такой же общительной, какой она всегда бывала в Женском клубе, и ее постоянно окружала толпа. Удовольствие, которое она испытывала, продавая вещи и кладя серебро и бумажки в старый жестяной ящик, приспособленный для этой цели, было ни с чем не сравнимо, так как за всю свою жизнь она никогда ничего не продала, если не считать мебели из сарая, приобретенной кузиной Милдред. Саре нравилось разговаривать с коммивояжерами, и Анн Мари Луиз спрашивала у нее совета относительно покупки стеклянных лебедей, пепельниц и сигаретниц. На свои деньги она как-то купила две дюжины высоких узких ваз, которые Анн Мари Луиз не захотела купить. Когда вазы прибыли, Сара сама распаковала ящик, порвав платье о гвоздь и повсюду раскидав упаковочную стружку. Затем она вымыла вазы и одну из них, сунув в нее бумажную розу, поставила на окно. (Она всю жизнь терпеть не могла бумажных цветов; но что поделаешь, когда уже грянули морозы?) Через десять минут после того, как ваза была поставлена на окно, ее купили, и за три дня были распроданы все. Сара прошла в сильное возбуждение, но с Лиэндером говорить о своей удаче она не могла и рассказала о ней только Лулу в кухне.
Вообще говоря, мысль о том, чтобы жена работала, пробуждала в Лиэндере сокровенное чувство оскорбленного мужского достоинства; он сделал крупную ошибку, оказавшись должником Гоноры, и не хотел совершить другую. Когда Сара сообщила, что хочет работать у Анн Мари Луиз, он тщательно обдумал это дело и принял отрицательное решение.
- Я не хочу, чтобы ты работала, Сара, - заявил он.
- Тебя это не касается, - сказала Сара.
На том все и кончилось.
В сущности, дело шло о чем-то более важном, нежели ущемленное мужское достоинство, - дело шло о традициях, так как многие из продаваемых Сарой сувениров были украшены изображениями кораблей в море и должны были пробуждать романтические воспоминания о славных днях Сент-Ботолфса, когда он был портовым городом. На протяжении своей жизни Лиэндеру пришлось видеть, как на развалинах здешнего побережья и порта возникли другое побережье и другой порт - подарков и антикварных магазинов, ресторанов, кафе и баров, где люди пили джин при свечах, окруженные плугами, рыболовными сетями, нактоузными фонарями и другими реликвиями трудной и правильной жизни, о которой они не имели никакого понятия. Лиэндер считал, что старая рыбачья плоскодонка с посаженными в ней петуниями представляла приятное зрелище, но, когда он вошел во вновь открывшийся салун в Травертине и обнаружил, что само помещение бара устроено в виде раздвоенной рыбачьей плоскодонки, у него возникло такое чувство, словно перед ним был призрак.