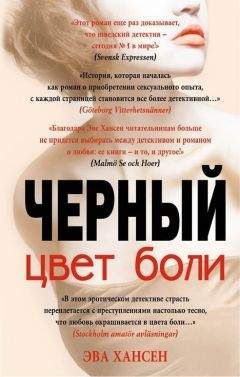Малыш опять раскричался. А войти к нему я не решаюсь. Полновластным хозяином я становлюсь только у себя в комнате. Если Авторитет туда сунется, стреляю без предупреждения!
Не единожды я проклинал тот день, когда предложил Эльне переселиться ко мне в школу, чтобы ей было где родить своего ребенка. Раз-другой я даже набрался, не выдержал. Хотя вообще-то стараюсь не злоупотреблять. Правда, после той охоты на куропаток я приложился дай Боже.
Малыш должен привыкнуть лежать спокойно. Эльна, скажу я тебе, женщина с характером. Я бы в жизни никому не позволил так мною командовать, кабы не одно обстоятельство. Но Эльна и не задумывается над тем, что же заставляет меня помалкивать. Нет, над этим она не задумывается. Видно, пороками страдаю не я один.
Иное дело Олуф - его к маленькому подпускают. Ему - можно! Нет, я не стану намекать об Эльне и Олуфе, я и так чувствую себя смешноватым, постаревшим и лишним.
Бог ты мой, чем я только не поступился! У меня нет денег на патроны, я уж и забыл, что это такое - потешить себя рюмочкой коньяка или посидеть, проставляя крестики в книжном каталоге. И все - ради этого орущего младенца.
Впрочем, Олуф благоразумен. Но я не рассказал тебе, что произошло между нами. Прошлогодним мартовским вечером, когда я застрелил вальдшнепа... ну да, для нее. По-моему, Нафанаил, тебя на этой охоте не было. Да, ты куда-то пропал в разгар весеннего бала. Я так привык с тобою беседовать, но на балу мне случилось поговорить по душам с одним человеком - и ты исчез. Что ж, теперь ты снова со мною.
Тем вечером - после охоты на вальдшнепов - я возвращался из лесу один, без нее. По дороге домой я поднялся на Нербьерг. Мы с Пигро взобрались на валун, лежащий на самой вершине, и долго стояли там. Быть может, это священный камень, оставшийся от солнцепоклонников: на него падает первый утренний луч, с ним последним прощается луч заката. А может, это древний жертвенник, на котором во исполнение обряда закалывали жертвенного борова, а то и человека.
Когда я взошел на вершину, еще не совсем стемнело. Эти мгновенья угасающего дня дороги страннику ничуть не меньше, чем рассветное чудо. Воздух на твоих глазах густо синеет, близкое - отдаляется, а далекое придвигается ближе. Ты стоишь и озираешь мир, погружающийся во тьму, и внимаешь ветру, который знает наизусть Брорсона. И вот уже кругом одна только синь, и вот уже затеплилась, затрепетала первая звезда. И чует охотник, скоро раздастся свист крыльев - первая утка! И остынет в тиши тот, у кого жгучая рана. Даже тот, кого неотступно преследуют, как две ищейки, сомнение и неверие, познает в эти мгновения, что Божественное имеет над ним власть.
Смеркалось. На западе в заоблачных высях догорал огромный костер. Смутно темнело море.
Впервые, поднявшись на Нербьерг, я понял, что судьба моя навсегда связана с этим земляным холмом, встающим из моря. Пускай у меня нет здесь корней, меня сюда забросило. Я - точно вонзившееся в остров копье.
Стоя на этом валуне, я подумал: здесь ты должен сделать свой выбор, здесь ты должен принести свою жертву. На большее я не осмелился. Я слишком стар, чтобы давать обеты, не будучи уверен, выполню ли. Я могу сказать "да-да" или "нет-нет", а все прочее в устах такого человека, как я, по сути, будет обманом. "Да-да" или "нет-нет". Полет уже невозможен, да и мечта померкла. Я волен избрать свою судьбу, я могу бороться, но я перестал расти. Мне себя уже не переделать, я знаю. Только Всевышний Рукомесленник может отлить человека заново, если захочет. Велико мое бессилие и велик мой грех, ибо тогда только я ощущаю присутствие Господа, когда Он меня карает.
Я знаю, есть люди иного склада. Есть натуры, для которых слово, дело и чувство означают освобождение. Они преображаются и оживают, подобно растениям, что ранее прозябали в тени. Они способны к росту; стоит им полюбить, и они расцветают и плодоносят, пусть даже жизнь у них складывается несчастливо. Мне думается, та, кому я причинил зла больше, чем кому-либо, - из их числа.
А я не такой.
И тем не менее я нужен Песчаному острову. Молодому поколению гораздо труднее срастись с историей своего края и рода. Кто-то должен учить их этому, с детства. Даже если этот кто-то - чужак. Может быть, оно и хорошо, что - чужак. Ему видно яснее, чем кому-либо, что остров необходимо завоевывать, как и тысячу лет назад.
Вот он распростерся передо мною. Малое пространство занимает он на карте, а для человека - огромен и сейчас, в темноте, - пугающе чужд. Он несметно богат временем, былым и грядущим. Человеческий век и память против него - ничто. Древние предания цепляются за него тонкими, хрупкими корешками, да и то лучше всех знает их теперь приезжий учитель. Холмы и дольмены куда древнее этих преданий. Язык, на котором некогда здесь говорили, унесен ветром. Та же участь, вероятно, постигнет и язык, который для нас как воздух. Придет время, и Песчаный остров будет называться иначе. Цветы, деревья, птицы, заяц в своем логове, галька на берегу - все они получат новые имена и перестанут быть тем, чем были для нас. Даже то, что мы называем нашей культурой, быть может, всего лишь флора однолетних декоративных растений в сравнении с вековечностью острова и его обманчивым постоянством.
Остров лежал передо мной словно чудище. Я не стал убеждать себя, как нередко делаю, будто понимаю его сердцем. Передо мной было чудище, которое пожирает людей, заглатывает поколение за поколением, почему все и уходит в забвение. Да, при свете дня его облик внушает доверие. Но это оттого, что, дневной, он может быть побежден разумом, связан языком, завоеван той культурой, которую мы то и дело берем под сомнение. Вот к такому пришел я выводу. Каждому поколению предстоит завоевывать остров заново. А для этого требуется духовная сила. Если упиваться его красотами, и только, это чистейшей воды паразитизм. Духовная же сила заключается в том, чтобы приставить к земле плуг и возделывать ее, чтобы приставить к бумаге перо и завоевывать остров путем познания.
Я понимаю, Нафанаил, все это звучит довольно высокопарно. Я хотел лишь сказать, что Песчаному острову нужен учитель, который предпочитает находиться именно здесь, а не где-то еще.
В сумерках я спустился с горы и направился к церкви. Меня познабливало. И Пигро, я заметил, тоже пробирала дрожь. (Пес тогда еще был в живых.) Видно, мы промерзли. Мне хотелось зайти в церковь и взглянуть на каменную голову, что вырубил в алтаре стародавний мастер. Это голова смерти, она олицетворяет гибель, забвение и бессмыслие. Я бы еще добавил это и лик самого острова, холодный и зловещий лик природы, когда она одерживает над нами верх. Но голова эта посажена с внутренней стороны алтаря, и смерти поневоле приходится пялить свои глазницы на символ воскресения, коего не постигнуть разумом. Мысль о воскресении засела в теле острова как гарпун и не отпускает.
Я приблизился к дверям, а войти у меня не хватило духу. Человек слаб. Я побродил по кладбищу, мне вдруг взбрело на ум выбрать место своего последнего упокоения, где бы я оказался в приятном соседстве. Что поделать, если я не могу без дурачеств! Я облюбовал себе местечко у самой ограды с видом на берег. После чего уселся на ограде, а Пигро вспрыгнул следом за мной. Так мы с ним и сидели.
Чуть погодя пес встрепенулся, начал принюхиваться. "Лежать!" - сказал я. Он лег, я легонько придержал его за холку. Кто-то поднимался на холм. Зашел в калитку. Тяжело ступая, двинулся вокруг церкви. Возле Эрикова гребного вала шаги замерли. Потом человек этот прошел мимо колокольни. У могилы Нильса остановился. И долго стоял. Пигро по-прежнему била дрожь.
Он что-то произнес над могилой. Произнес? Это были странные звуки. Нечеловеческие. Наконец он ушел.
Немного выждав, я спрыгнул с ограды и тихонько произнес имя. Пигро опрометью умчался во тьму.
На тропинке, ведущей мимо посадок, меня поджидал Олуф. Вместе с Пигро.
Мы постояли, молча.
- Слышишь? - спросил я. Над нами тянула стая.
- Свиязи, - определил он.
Мы пошли дальше, беседуя о том о сем. Улучив удобный момент, я сказал:
- Я тогда был не прав. Ты хотел поделиться со мной, рассказать про Нильса, а я не дал тебе. Я думал - лучше, если я буду с тобою покруче.
Я ждал, что он ответит мне. Но он промолчал.
Тогда я решил помочь ему:
- Похоже, ты не перестаешь винить себя в его смерти. Тут есть доля твоей вины, и от этого никуда не деться. Но куда больше виновен другой. Я мог остановить вас. Я этого не сделал. Наоборот, подзадорил вас.
Я ждал от него хоть каких-то слов. А он молчал. Я предпринял еще одну попытку - и понял: слишком поздно. Олуф утвердился в мысли, что останется наедине с пережитым до конца своих дней. И это непоправимо. Как и многое другое. О чем я помню и буду помнить.
Да, теперь слишком поздно... Нам надо расстаться. Знаешь, зима в этом году была мягкая и море на этот раз не замерзло. Морские птицы разжирели, я сужу по тем, которых подстрелили Анерс и Вальдемар. Сам-то я птиц не стрелял. Хотя и разглядывал их иногда в бинокль. Ну вот, а сейчас на дворе апрель. Весна нынче ранняя, я слышал звонкий голос большого кроншнепа, по канавам уже зеленеет купырь. А теперь, Нафанаил, нам пора расстаться. Я не вправе продолжать. Но поставить точку - боюсь. Правда, боюсь.