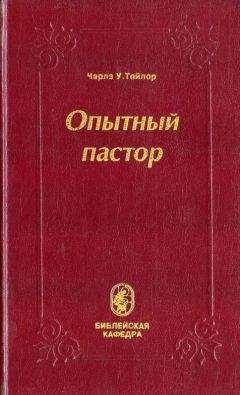Он начал биться, рваться во все стороны и пытался освободить свои члены, услыхав приближение чьих-то шагов; он представил себе, что все крестьяне сойдутся сюда из церкви; он уже видел наперед грустный взгляд пастора, поникшую голову сквайра, худо сдерживаемую усмешку деревенских мальчишек, завидовавших дотоле его незапятнанной славе, которая теперь навсегда, навсегда была потеряна. Он безвозвратно останется мальчиком, который сидел под наказанием. И слова сквайра представлялись его воображению подобно голосу совести, раздававшемуся в ушах какого нибудь Макбета:
«Нехорошо, Ленни! я не ожидал, что ты попадешь в такую передрягу.»
«Передрягу» – слово это было ему непонятно; но, верно, оно означало что нибудь незавидное.
– Именем всех котлов и заслонок, что это тут такое! кричал медник.
В это время мистер Спротт был без своего осла, потому что день был воскресный. Медник надел свое лучшее платье, пригладился и вырядился, сбираясь гулять по парку.
Ленни Ферфильд не отвечал за его призыв.
– Ты под арестом, мой жизненочек? Вот уж никак бы не ожидал этого видеть! Но мы все живем для того, чтоб учиться, прибавил медник, в виде сентенции. – Кто же задал тебе этот урок? Да ты умеешь, что ли, говорить-то?
– Ник Стирн.
– Ник Стирн! а за что?
– За то, что-я исполнял его приказания и подрался с мальчиком, который бродил здесь; он прибил меня, да это бы ничего; но мальчик этот был молодой джентльмен, который пришел в гости к сквайру; так Ник Стирн….
Ленни остановился, не имея сил продолжать, от негодования и стыда.
– А! сказал медник с важностью. – Ты подрался с джентльменом. Жаль мне это от тебя слышать. Сиди же и благодари судьбу, что ты так дешево отделался. Нехорошо драться с своими ближними, и леннонский мирный судья, верно, засадил бы тебя на два месяца вертеть жернова вместе с арестантами. За что же ты его ударил, если он только проходил мимо колоды? Ты, верно, забияка, а?
Лопни пробормотал что-то об обязанностях в отношении к сквайру и буквальном исполнении приказаний.
– О, я вижу, Ленни, прервал медник голосом, проникнутым огорчением: – я вижу, что тебя как ни корми, а ты все в лес смотришь. После этого ты нашему брату не компания: не суйся к порядочным людям. Впрочем, ты был хорошим мальчиком, и можешь, если захочешь, опять заслужить милость сквайра. Ах, век не паять котлов, если я могу понять, как ты довел себя до этого. Прощай, дружок! желаю тебе скорее вырваться из засады; да скажи матери-то, как увидишь ее, что медник мол берется починить и печь и лопатку…. слышишь?
Медник пошел прочь. Глаза Ленни последовали за ним с унынием и отчаянием. Медник, подобно всей людской братии, полил шиповник только для того, чтобы усилит его колючки. Праздный, ленивый шатала, он постыдился бы теперь сообщества Ленни.
Голова Ленни низко опустилась на грудь, точно налитая свинцом. Прошло несколько минут, когда несчастный узник заметил присутствие другого свидетеля собственного позора; он не слыхал шума, но увидал тень, которая легла на траве. Он затаил дыхание, не хотел открыть глаза, думая, может быть, что если он сам не видит, то и другие не могут видеть предметы.
– Per Bacco! сказал доктор Риккабокка, положив руку, за плечо Ленни и наклонившись, чтобы заглянуть ему в лицо.– Per Вассо! мой молодой друг! ты сидишь тут из удовольствия или по необходимости?
Ленни слегка вздрогнул и хотел избежать прикосновении человека, на которого он смотрел до тех пор с некоторого рода суеверным ужасом.
– Того-и-гляди, продолжал Риккабокка, не дождавшись ответа за свой вопрос: – того-и-гляди, что хотя положенье твое очень приятно, ты не сам его избрал для себя. Что это? – и при этом ирония в голосе доктора исчезла – что это, бедный мальчик? ты в крови, и слезы, которые текут у тебя по щекам, кажется, непустые, а искренния слезы. Скажи мне, povero fanciullo тио – звук итальянского привета, которого значения Ленни не понял, все таки как-то сладостно отдался в ушах мальчика: – скажи мне, дитя мое, как все это случилось? Может быть, я помогу тебе, мы все заблуждаемся, значит все должны помогать друг другу.
Сердце Ленни, которое до тех пор казалось закованным в железо, отозвалось на ласковый говор итальянца, и слезы потекли у него из глаз; но он отер их и отвечал отрывисто:
– Я не сделал ничего дурного; я только ошибся, и это-то меня и убивает теперь!
– Ты не сделал ничего дурного? В таком случае, сказал философ, с важностью вынув из кармана свой носовой платок и расстилая его за земле: – в таком случае я могу сесть возле тебя. О проступке я мог только сожалеть, но несчастье ставит тебя в уровень со мною.
Ленни Ферфильд не понял хорошенько этих слов, но общий смысл их был слишком очевиден, и мальчик бросил взгляд благодарности на итальянца.
Риккабокка продолжал, устроив себе сиденье:
– Я имею некоторое право на твою доверенность, дитя мое, потому что и я когда-то испытал много горя; между тем я могу сказать вместе с тобой: «я никому не сделал зла». Cospetto – тут доктор покойно расположился, опершись одною рукою на боковой столбик колоды и дружески касаясь плеча пленника, между тем как взоры его обегали прелестный ландшафт, бывший у него в виду: – моя темница, если бы только им удалось посадить меня, не отличалась бы таким прекрасным видом. Впрочем, это все равно: нет неприятной любви точно так же, как и привлекательной темницы.
Произнеся это изречение, сказанное, впрочем, по итальянски, Риккабокка снова обратился к Ленни и продолжал свои убеждения, желая вызвать мальчика на откровенность. Друг во время беды – настоящий друг, кем бы он ни казался. Все прежнее отвращение Ленни к чужеземцу пропало, и он, рассказал ему свою маленькую историю.
Доктор Риккабокка был слишком сметлив, чтобы не понять причины, побудившей мистера Стирна арестовать своего агента. Он принялся за утешение с философским спокойствием и нежным участием. Он начал напоминать, или, скорее, толковать Ленни о всех пришедших ему в то время на намять обстоятельствах, при которых великие люди страдали от несправедливости других. Он рассказал ему, как великий Эпиктет достался такому господину, которого любимое удовольствие было щипать ему ногу, так что эта забава, кончившаяся отнятием ноги, была несравненно хуже колоды. Много и других обстоятельств, более или менее относящихся к настоящему случаю, – привел доктор, почерпая их из разных отделов истории. Но, поняв, что Ленни, по видимому, нисколько не утешался этими блестящими примерами, он переменил тактику и, подведя ее под argumentum ad rem, принялся доказывать: первое, что настоящее положение Ленни не было вовсе постыдно, потому что всякий благомыслящий человек мог узнать в этом жестокость Стирна и невинность его жертвы; второе, что если сам он, доктор, может быть, ошибся с первого взгляда, то это значит, что повторенное мнение не всегда справедливо; ли и что такое наконец постороннее мнение? – часто дым – пуф! вскричал доктор Риккабокка: – вещь без содержания, без длины, ширины или другого измерения, тень, призрак, нами самими созданный. Собственная совесть есть лучший судья для человека, и он так же должен мало бояться мнения всех без разбора, как какого нибудь привидения, когда ему доведется проходить кладбищем ночью.
Но так как Ленни боялся в самом деле проходить ночью кладбищем, то уподобление это уничтожило самый аргумент, и мальчик печально опустил голову. Доктор Риккабокка сбирался уже начать третий ряд рассуждений, которые, еслибы ему удалось довести их до конца, без сомнения, вполне объяснили бы предмет и помирили бы Ленни с настоящим положением, но пленник, прислушивавшийся все это время чутким ухом, узнал, что церковная служба кончилась, и тотчас вообразил, что все прихожане толпою сойдутся сюда. Он уже видел между деревьями шляпы и, чепцы, которых Риккабокка не примечал, несмотря на отличные качества своих очков, слышал какой-то мнимый говор и шепот, которого Риккабокка не мог открыть, несмотря на его теоретическую опытность в стратагемах и изменах, которые должны были изощрить слух итальянца. Наконец, с новым напрасным усилием, узник вскричал:
– О, если бы я мог уйти прежде, чем они соберутся. Выпустите меня, выпустите меня! О, добрый сэр, выпустите меня!
– Странно, сказал философ, с некоторым изумлением; – странно, что мне самому не пришло это в голову. Если не ошибаюсь, тут задели за шляпку правого гвоздя.
Потом, смотря вблизи, доктор увидал, что хотя деревянные брус и входил в другую железную скобку, которая сопротивлялась до сих пор усилиям Ленни, но все-таки скобка эта не была заперта, потому что ключ и замок лежали в кабинете сквайра, вовсе неожидавшего, чтобы наказание пало на Ленни без предварительного ему о том заявления. Лишь только доктор Риккабокка сделал это открытие, как убедился, что никакая мудрость какой бы то ни было школы не в состоянии приохотить взрослого человека или мальчика к дурному положению, с той минуты, как есть в виду возможность избавиться беды. Согласно этому рассуждению, он отворил запор, и Ленни Ферфильд выскочил на свободу, как птица из клетки, остановился на несколько времени от радости, или чтобы перевести дыхание, и потом, как заяц, без оглядки бросился бежать к дому матери. Доктор Риккабокка вложил скрипевший брус на прежнее место, поднял с земли носовой платок и спрятал его в карман, и потом с некоторым любопытством стал рассматривать это исправительное орудие, наделавшее столько хлопот освобожденному Ленни.