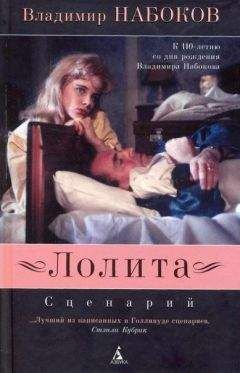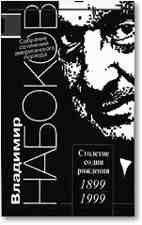по отношению к Салли подтверждало: Ласалль – «угроза обществу, безнравственный человек, моральный калека».
– Матери по всей стране вздохнут с облегчением, зная, что такой человек наконец в тюрьме. Что Ласалль под надежной охраной и уже никому не причинит вреда, – заключил Коэн, обращаясь к судье и зрителям в зале.
Судья Палезе спросил [170], не хочет ли Коэн сообщить суду еще что-то. Тот ответил утвердительно.
– Если угодно, ваша честь, я предлагаю выслушать признание обвиняемого, Фрэнка Ласалля. Но прежде чем мы это сделаем, считаю необходимым поставить суд в известность, что я подробно обсудил это дело с обвиняемым, сообщил ему о праве на адвоката и о преимуществах того, что его интересы будет защищать адвокат. Я также предупредил его о серьезности выдвинутых обвинений и сроке приговоров, положенных по таким обвинениям.
Обвиняемый не в первый раз предстает перед судом и понимает суть обоих обвинений, о чем сообщил мне сам. Он осознает их серьезность и сроки приговоров, минимальные сроки приговоров, которые может вынести суд, однако поставил меня в известность, что не желает пользоваться услугами адвоката, будь то собственного или назначенного судом. Тем не менее я считаю уместным, чтобы обвиняемый лучше понял ситуацию, повторить ему права в суде, прежде чем он выступит с заявлением.
Судья Палезе обратился к Фрэнку Ласаллю:
– Мистер Ласалль, вы слышали мнение прокурора: он поставил суд в известность, что провел с вами беседу, объяснил суть двух обвинений, выдвинутых против вас расширенной коллегией присяжных нашего округа, а также сообщил суду, что вы не желаете, чтобы ваши интересы представлял адвокат, и намерены дальше обходиться без него. Правда ли это?
– Да, – ответил Ласалль.
– Вы осознаете серьезность двух обвинений, выдвинутых против вас нашей коллегией присяжных? – уточнил Палезе.
– Да, сэр.
– И что они подразумевают довольно-таки серьезные сроки заключения?
– Да, сэр, – повторил Ласалль.
Судья Палезе спросил, в чем тот хочет признаться.
– В том, что я виновен, – еле слышно произнес Ласалль.
Судья спросил, не желает ли Ласалль сообщить еще что-то, прежде чем будет вынесен приговор.
Ласалль проговорил слабым голосом:
– Не хочу шумихи вокруг девочек. (Впоследствии Коэн пояснил репортерам, что Ласалль, скорее всего, перенервничал и хотел сказать «девочки».)
На этом заседание завершилось. Вся процедура заняла от силы минут двадцать и к четверти первого уже закончилась. Но сначала Палезе вынес Ласаллю приговор. Судья постановил, что мучитель Салли проведет в тюрьме по обвинению в похищении не менее тридцати и не более тридцати пяти лет. Подать прошение об условно-досрочном освобождении он получит право не раньше, чем пройдут три четверти от назначенного срока заключения. Он также добавил к изначальному обвинению в похищении от двух до трех лет заключения и от двух до трех лет за нарушение условий досрочного освобождения.
Через два дня, пятого апреля, после полудня, Ласалль начал отбывать срок в тюрьме штата в Трентоне.
Фрэнк Ласалль после признания вины
Фрэнк Ласалль признал вину [171], следовательно, Салли не нужно было давать против него показания. После заседания, в кабинете Митчелла Коэна, она снова спросила, с трудом сдерживая слезы (куда и девалась стойкость, с которой она держалась в зале суда!), когда ее наконец отпустят домой. Ведь дело закрыто, Фрэнк Ласалль отправится в тюрьму, значит, ей можно прямо сейчас вернуться к маме?
Коэн искренне сочувствовал Салли, о чем ей и сказал. На первый взгляд, сейчас, когда дело закрыто и Ласалль за решеткой, не осталось причин держать ее в приюте штата, однако колеса бюрократической машины крутятся медленнее, чем хотелось бы. Решить, можно ли выпустить Салли из приюта под опеку Эллы, должен был судья Палезе, что он и сделал на следующий же день.
В полдень 4 апреля 1950 года Коэн пригласил Эллу и Салли в прокуратуру для «продолжительной беседы», как он назвал их встречу в разговоре с журналистами, и сообщил им долгожданную новость. А также дал матери и дочери совет. Они, конечно, вольны по-прежнему оставаться в доме 944 по Линден-стрит, однако, на его взгляд, будет лучше, если они «уедут отсюда, сменят имя и начнут новую жизнь».
Пристальное внимание прессы к делу Салли означало, что и в Кэмдене, и в Филадельфии, и в соседних городах знают о случившемся с девочкой. И Коэн опасался, что ее станут осуждать за потерю невинности (пусть даже это было изнасилование), – хотя, разумеется, нет никаких оснований предполагать, что общественность отреагирует именно так. Коэн также убедил Эллу посоветоваться с преподобным Альфредом Джассом, директором управления благотворительной организации Catholic Charities [172], о том, что касается «возвращения Салли к нормальной жизни». Элла была протестанткой, однако священник есть священник; видимо, Коэн выбрал в советчики именно католика, поскольку Салли последнее время посещала католические школы.
Салли и Элла приехали домой без четверти два. Поджидавшие их репортеры и фотографы засыпали мать и дочь советами, щелкали фотокамерами, пока Элла, прикрывая дочь, шла в дом. Не обращая внимания на крики, она плотно прикрыла за ними дверь.
С того самого дня мать и дочь Хорнер снова стали обычными гражданами. Ни правоохранители, ни пресса уже не имели к ним никакого отношения. Мир мог оставить их в покое.
В каком-то смысле так и случилось, однако их спокойная жизнь продлилась недолго.
ВОСЕМНАДЦАТЬ
Когда же Набоков (на самом деле) узнал о Салли
Утро 22 марта 1950 года Владимир Набоков провел [173] так же, как и каждое утро следующего месяца: в постели, измученный тем же неврологическим недугом, который одолевал его десятью годами ранее, за несколько месяцев до отъезда в Америку. «Я последовал вашему примеру [174] и лежу в постели с температурой выше 102 градусов [175], – написал он 24 марта Кэтрин Уайт, редактору журнала New Yorker. – Никакой не бронхит, а грипп, причем сопровождается он мучительной межреберной невралгией».
Уайт тоже болела и посоветовала Набокову предпочесть отдых работе. Набоков отдыхал, но работать не прекращал. Десятью годами ранее, прикованный к постели, он писал «Волшебника»; вот и сейчас закончил две последние главы «Убедительного доказательства», первого варианта автобиографии, которая впоследствии выходила под названием «Память, говори». Месяц спустя Набоков признался Джеймсу Лохлину [176], редактору издательства New Directions, что, по-видимому, «вернется в обычное состояние» лишь через несколько недель. Тем летом они с Верой не путешествовали по Америке, как в прошлом году и три раза прежде. Не было ни времени, ни денег, выздоровление шло медленно, а сроки сдачи различных работ поджимали.
Легко представить, что