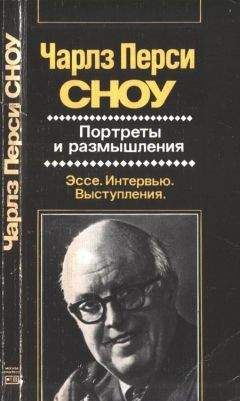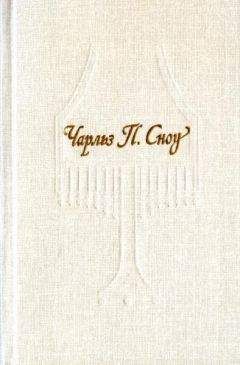А Найтингейл нападал не только на него. Как-то вечером, в конце мая, ко мне подошел Льюк и сказал, что ему надо со мной поговорить. Мы поднялись ко мне в гостиную, и тут он дал волю своему гневу:
- Я человек терпеливый, но скоро он у меня дождется, этот Найтингейл. По-моему, я и так слишком долго молчал. Сдается мне, что я скоро заговорю - и тогда уж выложу им все начистоту.
- Что он еще выкинул?
- Он пригрозил мне, что, если я не проголосую за Кроуфорда, меня потом не возьмут в колледж на постоянную работу, они, дескать, об этом позаботятся.
- Мало ли что он скажет...
- Вы думаете, я не понимаю? Я ему спокойно ответил - хотя, убей бог, не понимаю, зачем мне понадобилось сдерживаться, - что я лучше удавлюсь. Выходит, они думают, что угрозами меня можно заставить покорно отплясывать под их дудку?
- Может быть, и думают. - Я улыбнулся, хотя меня возмутила выходка Найтингейла. А вот Льюк нравился мне все больше. Если уж его охватывал гнев, то он отдавался ему без оглядки. Все его чувства - пылкая радость, когда работа подвигалась успешно, неподдельное горе, когда исследования заходили в тупик, даже его страстная сдержанность на официальных собраниях - были глубокими и поразительно искренними. Они захватывали его целиком. Воплощенное негодование - вот как его можно было охарактеризовать в тот вечер. - Может быть, и думают, - сказал я. - Но мы-то с вами знаем, что они ошибаются.
- Еще как ошибаются! - возмущенно воскликнул Льюк. - Конечно, мне хочется остаться в колледже, работать здесь гораздо приятней, чем на каком-нибудь судостроительном заводе, по неужели они воображают, что стоит им свистнуть, и я, как собачонка, встану перед ними на задние лапки? Какую бы пакость они мне ни устроили, с голоду-то я все равно не умру. Приличный ученый всегда найдет себе работу. Они пытаются меня шантажировать, потому что видят, что мне не хочется терять здешнего комфорта.
Я объяснил Льюку, что "они" - это, весьма вероятно, один Найтингейл. Мне не верилось, что Фрэнсис Гетлиф мог одобрить такой шаг, и я сказал, что обязательно с ним поговорю. Льюк, все еще злой, ушел в лабораторию.
Я хотел встретиться с Фрэнсисом на следующий же день, но оказалось, что он уехал заканчивать работу для Министерства авиации: лекций в университете уже не было, потому что начались экзамены. Фрэнсис должен был вернуться только через две недели, и я рассказал про случай с Льюком Брауну.
- Вот ведь стервецы! - возмутился он. - Я по натуре мягкий человек, но последнее время они позволяют себе слишком много. И мне надоело терпеть их безобразия. Но знаю, как вы, а я окончательно уверился, что Кроуфорда нельзя пропускать в ректоры. Нет уж - только через мой труп!
Мы все считали, что за поступки Найтингейла должна отвечать партия Кроуфорда в целом. Юный Льюк уверенно говорил "они"; Браун - да и я тоже обвинял "их" всех. Мы смотрели на своих противников сквозь пелену общей неприязни, забывая, что "они" вовсе не похожи друг на друга. Нас охватила истерия вражды: и Брауну, всегда такому рассудительному, терпимому, хладнокровному, и мне - хотя я вовсе не фанатик - "они" представлялись порой единым монолитом.
Но временами нам становилось стыдно, и, когда я в следующий раз встретился с Брауном, он, по-видимому, собирался немного утихомирить разбушевавшиеся не в меру страсти.
- Я хочу позвать в этом году больше гостей на свой вечер, - сказал он. Ежегодно, когда в университете кончались занятия, Браун приглашал кое-кого из коллег посидеть у него за бокалом кларета. - По-моему, это обязательно надо сделать. Нам еще долго придется работать бок о бок - даже если мы сумеем провести Джего в ректоры. Должен, правда, заметить, что я вовсе не собираюсь затевать с нашими противниками переговоры о выборах. Но мне хочется показать им, что мы не гнушаемся их обществом. Да, если я приглашу и наших противников, это произведет на всех благоприятное впечатление.
Браун позвал к себе Винслоу, Кроуфорда, Пилброу, Калверта и меня. Мне этот вечер - как и многие другие в то лето - показался пыткой. Тихая майская погода как-то особенно заметно подчеркивала гармоничную красоту нашего колледжа; Браун угощал нас удивительно хорошим вином; но мрачность Роя тревожила меня сверх всякой меры: я со страхом ждал от него какой-нибудь неистовой вспышки. Я просто не мог думать в тот вечер ни о чем другом.
Дважды мне удалось дать ему знак, что надо сдерживаться. Его уже терзала депрессия, но он еще владел своими чувствами, однако несчастья других всегда травмировали его, а среди приглашенных был Винслоу, который беспокоился за сына: он сдавал в тот вечер экзамен. В ответ на вопрос Брауна об его успехах Винслоу резко сказал:
- Какие уж там успехи у полуграмотных! Хорошо, если этот несчастный юнец сможет прочитать экзаменационное задание.
Рой уловил в его тоне грустное уныние и помрачнел еще больше. Но тут, к счастью, Браун опять предложил нам выпить. Было уже десять часов, однако солнце только что село, и островерхую крышу перед брауновским окном золотили лучи вечерней зари. В одном из соседних колледжей на ежегодном майском балу играл оркестр; легкий ветерок доносил до нас приглушенную музыку и запах цветущей акации.
Пилброу взял на себя обязанности распорядителя. Он прекрасно разбирался в винах и в свое время научил этому Брауна. Его лысина мягко поблескивала в вечерних сумерках, а когда около полуночи стало темно и Браун включил свет, засверкала, как бильярдный шар; однако, если не считать раскрасневшихся щек, Пилброу ничуть не менялся, хотя пустых бутылок становилось все больше. Он ловил чей-нибудь взгляд и спрашивал, что мы чувствуем - в начале, середине и конце каждого глотка. Сам он уже попробовал - в разных сочетаниях - все десять сортов кларета. Потом посмотрел на нас и уверенно сказал:
- Да, вряд ли вы станете настоящими знатоками. Разве что наш хозяин...
- Ну, хозяину тоже далеко до вас, мой дорогой учитель, - усмехнувшись, проговорил Браун.
Рой пил больше нас всех. В его глазах уже зажегся опасный огонек. Он заговорил с Винслоу - и тут я предостерег его в первый раз. Он грустно улыбнулся и умолк.
А Винслоу все время думал о своем сыне.
- Для меня будет огромным облегчением, - смиренно и без всякого сарказма сказал он, - если экзаменаторы сочтут его знания удовлетворительными.
- Я уверен, что сочтут, - успокоительно заметил Браун.
- Совершенно не представляю себе, что с ним будет, если он провалится, - сказал Винслоу. - Способностей к наукам у него, конечно, нет. И все же мне кажется, что он не совсем бездарен. По-моему, он очень достойный юноша. И если его сейчас не завалят, то он может стать весьма незаурядным человеком - я искренне в этом убежден.
Никогда еще Винслоу не говорил так откровенно. Но через несколько минут он собрался с силами и обрел свой обычный саркастический тон. Он заставил себя сказать Брауну:
- Мой дорогой коллега, я понимаю - вам пришлось заниматься с очень тупым учеником. Сочувствую и пью за ваше здоровье.
Браун настоял, чтобы они выпили за успехи юного Винслоу.
- Разрешите, я налью вам еще вина. Какого вы хотите? По-моему, бокал для латурского у вас до сих пор сухой.
Перед каждым из нас стояло по десять бокалов - для разных сортов кларета. Браун выбрал нужный бокал и налил Винслоу кларета "Латур".
- Благодарю вас, наставник. Вы очень любезны. Очень.
Кроуфорд благосклонно разглядывал хрустальные и серебряные бокалы, бутылки с кларетом, раскрасневшиеся лица гостей - в комнате царило непринужденное и дружеское веселье. На западе мягко золотились отблески вечерней зари. Во дворике слышались голоса и смех - группа наших студентов отправлялась в соседний колледж на бал.
- Трудно представить себе реальную обстановку в мире, когда пользуешься вашим гостеприимством, Браун, - проговорил Кроуфорд. - Ведь если взглянуть на сегодняшний мир глазами холодного аналитика, то нельзя не заметить, что он катастрофически неустойчив. Но в такой вечер этому просто невозможно поверить.
- А так всегда, - неожиданно заметил Пилброу. - Я вот участвовал в двух революциях... вернее, не то чтобы участвовал - просто был свидетелем. И знаете - увидишь из окна вагона молодую женщину, которая нежится в лучах утреннего солнышка, и не можешь поверить, что все _уже началось_.
- Да, сегодня невозможно поверить, что нам придется расхлебывать ту горькую кашу, которую заварили политические единомышленники Брауна, сказал Кроуфорд. - Я думаю, мне навеки запомнится сегодняшний вечер...
- Да! Да! Вы совершенно правы! - вскричал, поблескивая глазами-пуговками, Пилброу. Он, вместе с Кроуфордом, пустился в рассуждения об европейских событиях; бутылки быстро пустели, а Пилброу объяснял, какую именно кашу нам придется расхлебывать, - через три недели он уезжал на Балканы, чтобы увидеть все собственными глазами. Семидесятичетырехлетний старик, он был взволнован предстоящей поездкой, как мальчишка.