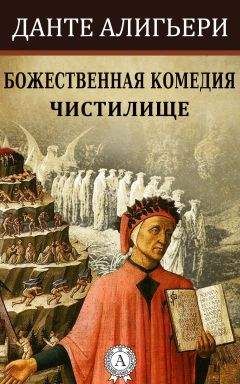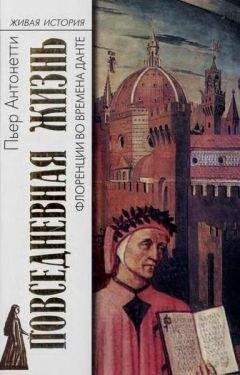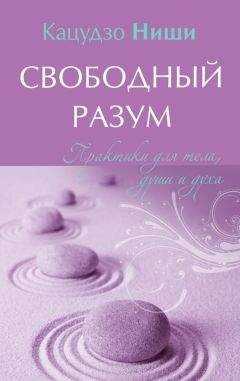XIII. Отвечая на этот вопрос, я утверждаю, что, собственно, нельзя говорить о росте стремления к науке, хотя, как уже отмечалось, стремление это в известном отношении и расширяется. В самом деле, то, что растет, всегда остается самим собой; стремление же к науке не ограничено, и, когда удовлетворено одно, появляется другое; таким образом, расширение его не есть рост, но последовательный переход от малого к большому. Например, если я стремлюсь познать начала природных явлений, то, как только я их познал, стремление мое исчерпано и удовлетворено. Если же я затем стремлюсь познать, каково каждое из этих начал, то это уже другое, новое стремление и от появления его я не лишаюсь того совершенства, к которому меня привело предыдущее; и такого рода расширение есть не признак несовершенства, а признак большего совершенства. Стремление же к богатству действительно есть рост в собственном смысле этого слова, поскольку стремление это всегда остается самим собой, так что в нем не видно никакой последовательности и оно себя ни в чем не исчерпывает и ни в чем не достигает совершенства. И если противник хочет сказать, что одно дело -- стремление познать начала природных явлений, а другое -- познать, каковы они, подобно тому как одно дело -- стремление получить сто марок, а другое -- стремление получить их тысячу, я отвечаю, что это неправда; в самом деле, сотня есть часть тысячи и относится к ней так же, как часть линии к целой линии, переход к которой совершается единым движением и в которой нет, ни в одной ее части, никакой последовательности и никакой завершенности движения. Но познание того, что существуют начала природных явлений, и познание того, каково каждое из этих начал, не связаны друг с другом как целое и часть, но относятся друг к другу, как две разные линии, которые проводятся не единым движением, а так, что вторая линия проводится лишь после того, как уже проведена первая. И, таким образом, ясно, что из стремления к науке еще не следует, что науку должно называть несовершенной, так же как несовершенство богатства следует из стремления к богатствам, как это и значилось в поставленном вопросе; ведь в стремлении к науке отдельные стремления поочередно себя исчерпывают и этим достигается совершенство, а в стремлении к богатствам этого не бывает. Таким образом, вопрос разрешен и отпадает.
Конечно, противник может клеветать и дальше, говоря, что хотя многие стремления и удовлетворяются в приобретении знаний, но до крайнего предела дело никогда не доходит1; а это примерно подобно несовершенству того, что предела не имеет и все же остается самим собой. Опять-таки и здесь ответ гласит, что это возражение, а именно что дело якобы никогда не доходит до предела,-- неверно: действительно, наши естественные стремления, как было показано выше, в третьем трактате, приводят к определенному своему завершению, хотя некоторые, избравшие ложную дорогу, и не завершают своего пути. И всякий знакомый с Комментарием к третьей книге "О душе" именно это из него и извлекает2. А потому Аристотель, возражая поэту Симониду, и говорит в десятой книге "Этики", что "человек должен как можно больше стремиться к вещам Божественным". В первой же книге "Этики" он говорит, что "человек ученый требует достоверности в познании вещей в соответствии с той мерой достоверности, которую можно получить от их природы"; этим он показывает, что следует рассчитывать на конечность не только со стороны человека в его стремлениях, но и со стороны того предмета познания, к которому он стремится. Недаром Павел говорит: "Знать не больше, чем знать положено, но знать в меру"3. Таким образом, как бы ни понимать стремление к науке, будь то в общем или в частном смысле, оно есть стремление к совершенству, ибо наука обладает совершенством совершенным и благородным и от стремления к ней своего совершенства не теряет, как теряют его проклятые богатства.
Насколько же последние вредны, когда ими владеешь, надлежит вкратце показать, так как это и есть третий признак их несовершенства. То, что владение ими приносит вред, можно усмотреть из двух доводов: первый -- это то, что они причиняют зло; второй, что они -- отсутствие добра. Они -причина зла уже потому, что владелец их, будучи вынужден нести над ними бдение, становится робким и озлобленным. Каких только страхов не натерпится тот, кто в пути или дома не только наяву, но и во сне, чувствуя себя обладателем богатств, боится потерять не только имущество, но и свою жизнь. Это хорошо знают несчастные торговцы, которые странствуют по свету и которых, когда они возят при себе богатства, даже листья, шелестящие на ветру, вгоняют в дрожь; когда же у путешественников ничего нет, они без тревог коротают свой путь песнями и всякими утехами. Недаром мудрец говорит: "Если бы путник отправился в дорогу налегке, то он распевал бы песни даже перед лицом грабителей4. И это же хочет сказать и Лукан в пятой песни, когда он, хваля бедность за даруемую ею безопасность, говорит: "О ты, надежная сила бедной жизни! О вы, тесные хижины и скромный скарб! О вы, еще не познанные богатства богов! В каких храмах и в каких чертогах можно было не убояться никакой резни, когда десница Цезаря постучалась в дверь?"5 Лукан же говорит это, когда повествует о том, как Цезарь вошел ночью в хижину рыбака Амикланта6, чтобы переправиться через Адриатическое море. И какую ненависть питает каждый человек к обладателю богатствами либо от зависти, либо от желания присвоить себе его имущество! И поистине дело часто доходит до того, что вопреки должному почтению сын мечтает о смерти отца: и величайшим и очевиднейшим примером тому являются латиняне, проживающие в долине По или в долине Тибра! Недаром Боэций во второй книге своего "Утешения" говорит: "Поистине алчность делает людей человеконенавистниками".
Обладание богатствами есть в то же время и отсутствие добра. В самом деле, люди, владея ими, не проявляют щедрости -- добродетели, в которой заключено совершенное добро и которая окружает людей сиянием и всеобщей любовью. Поэтому Боэций в той же книге и говорит: "Деньги хороши лишь тогда, когда ими больше не владеешь и проявляешь свою щедрость, передавая их другим". Из этого с достаточной очевидностью вытекает и низменность богатств, со всеми присущими ей признаками. И потому человек, которому присущи справедливые стремления и истинные познания, никогда не питает любви к богатствам, к ним не привязывается, но всегда старается их от себя отстранить, за исключением случаев, когда они предназначаются для какой-нибудь необходимой услуги другому человеку. И это разумно, ибо совершенное не может сочетаться с несовершенным, почему мы и видим, что кривая линия никогда не совпадает с прямой, а если между ними и бывает какое-нибудь совпадение, то не линии с линией, а лишь точки с точкой. И отсюда следует, что дух, который прям в своих устремлениях и истиннолюбив в своем познании, от утраты богатств не меняется, как это и говорится в тексте канцоны, в конце этой ее части. И ради этого текст и старается показать, что богатства -- не что иное, как река, протекающая у прямой башни разума и благородства7, и что потому эти сокровища не могут отнять благородство у того, кто ими обладает. Вот с какой точки зрения в настоящей канцоне рассматриваются и осуждаются богатства.
XIV. После того как опровергнуто заблуждение некоторых относительно богатства, остается оспорить его и в той части, где утверждается, что причиной благородства является время, и говорится о "древнем богатстве". Опровержение же это происходит в той части канцоны, которая начинается словами: "Не стать мужлану мужем благородным..." И, во-первых, это опровергается при помощи довода, выдвигавшегося именно теми, кто так заблуждается; а затем, к вящему их посрамлению, и этот их довод изничтожается; и это происходит там, где текст гласит: "Мы знатны все, или мы все мужланы". Наконец, выводится заключение, что заблуждение их очевидно и что поэтому настало время обратиться к истине,-- в том месте, когда в тексте говорится: "Поймите, нежеланны..."
Итак, я пишу: "Не стать мужлану мужем благородным..." -- при этом надо иметь в виду, что эти заблуждающиеся люди придерживаются мнения, будто человек низкого происхождения никогда не сможет называться благородным и что равным образом и сын его никогда таковым называться не сможет. Но этим опровергается собственное же их суждение, когда они, пользуясь словом "древние", утверждают, что для благородства требуется время; ибо с течением времени невозможно достигнуть того, чтобы родилось благородство, если придерживаться их довода, который был приведен выше и который отрицает, что подлый человек может когда-либо сделаться благородным через поступок, им совершенный, или как-нибудь случайно и что у подлого отца может оказаться благородный сын. В самом деле, если сын человека подлого тоже подл, и сын его будет тоже сыном подлого человека и, таким образом, тоже подлым, а также и его сын, и так до бесконечности, то и невозможно будет установить, где именно стечением времени появится благородство. А если бы противник, желая защититься, сказал, что благородство появится в то время, когда низкое происхождение предков будет забыто, я отвечу, что это будет противоречить их же утверждению, поскольку в таком случае по необходимости наступит превращение подлости в благородство, одного человека в другого или отца в сына, что противоречит выдвигаемому ими положению.