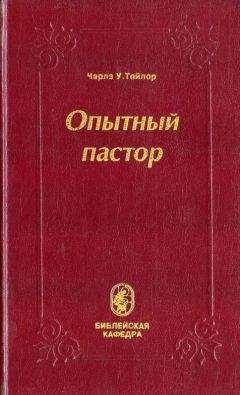– Перестань, мой милый, сказал мистер Дэль нежным голосом: – тебе нечего бояться: все объяснилось, и ты прощен.
Ленни приподнял голову; вены на лбу его сильно надулись.
– Сэр, сказал он, весьма смело: – я не нуждаюсь в прощении: я ничего не сделал дурного. Но…. меня опозорили…. я не хочу ходить больше в школу…. не хочу!
– Замолчи, Кэрри! сказал мистер Дэль, обращаясь к жене своей, которая, с обычною пылкостью своего нрава, хотела сделать какое-то возражение. – Спокойной ночи, мистрисс Ферфильд! Я завтра зайду поговорить с тобой, Ленни; надеюсь, что к тому времени ты совсем иначе будешь думать об этом.
На обратном пути к дому, мистер Дэль зашел в Гэзельден-Голл – донести о благополучном возвращении Ленни. Необходимость требовала сделать это: сквайр сильно беспокоился о мальчике и лично участвовал в поисках его.
– И слава Богу, сказал сквайр, как только услышал о возвращении Ленни:– первым делом завтра поутру пусть он отправится в Руд-Голл и выпросит прошенье мистера Лесли: тогда все пойдет снова своим чередом.
– Этакой забияка! вскричал Франк, и щоки его побагровели:– как он смел ударить джентльмена и в добавок еще воспитанника Итонской школы, который явился сюда сделать мне визит! Удивляюсь, право, как Рандаль отпустил его так легко от себя.
– Франк, сказал мистер Дэль сурово: – вы забываетесь. Кто дал вам право говорить подобным образом перед лицом ваших родителей и вашего пастора?
Вместе с этим он отвернулся от Франка, который прикусил себе губы и раскраснелся еще более, – но уже не от злости, а от стыда. Даже мистрисс Гэзельден не решилась сказать слова в его оправдание. Справедливый упрек, произнесенный мистером Дэлем, суровым тоном, смирял гордость Гэзельденов. Уловив пытливый взгляд доктора Риккабокка, мистер Дэль отвел философа в сторону и шепотом сообщил ему свои опасения касательно того, как трудно будет убедить Денни Ферфильда на мировую с Рандалем Лесли, и что Ленни не так легко забыл о своем положении в колоде, как это сделал мудрец, вооруженный своей философией. Это совещание было внезапно прервано прямым намеком мисс Джемимы на близкое и неизбежное падение мира.
– Сударыня, сказал Риккабокка (к которому направлен был этот намек), весьма неохотно удаляясь от пастора, чтоб взглянуть на несколько слов какого-то периодического издания, трактующих об этом предмете: – сударыня, позвольте заметить, вам весьма трудно убедить человека в том, что мир приближается к концу, тогда как, при разговоре с вами, в душе этого же самого человека пробуждается весьма естественное желание забыть о существовании всего мира.
Мисс Джемима вспыхнула. Само собою разумеется, что этот бездушный, исполненный лести комплимент должен был бы усилить её нерасположение к мужскому полу; но – таково ужь человеческое сердце! – он, напротив, примирил Джемиму с мужчинами.
– Он непременно хочет сделать мне предложение, произнесла про себя мисс Джемима, с глубоким вздохом.
– Джакомо, сказал Риккабокка, надев ночной колпак и величественно поднимаясь на огромную постель: – мне кажется, теперь мы завербуем того мальчика для нашего сада.
Таким образом все садились на своего любимого конька и быстро мчались в вихре гэзельденской жизни, не заслоняя друг другу дороги.
Как далеко ни простирались виды мисс Джемимы Гэзельден на доктора Риккабокка, но не привели ее еще к желаемой цели, – между тем как макиавеллевская проницательность, с которой итальянец расчитывал на приобретение услуг Ленни Ферфильда, весьма быстро и торжественно увенчалась полным успехом. Никакое красноречие мистера Дэля, действительное во всякое другое время, не могло убедить деревенского мальчика ехать к Руд-Голл и просит извинения у молодого джентльмена, которому он, за то только, что исполнял свой долг, обязан был сильным поражением и позорным наказанием. Притом же и вдова, к величайшей досаде мистрисс Дэль, всеми силами старалась защищать сторону мальчика. Она чувствовала себя глубоко оскорбленною несправедливым наказанием Ленни и потому вполне разделяла его гордость и открыто поощряла его сопротивление. Немалого труда стоило также убедить Ленни снова продолжать посещения приходской школы; они не хотел даже выходить за пределы наемных владений своей матери. После долгих увещаний он решился наконец ходить по-прежнему в школу, и мистер Дэль считал благоразумным отложить до некоторого времени дальнейшие неприятные требования. Но, к несчастью, опасения Ленни насчет насмешек и злословия, ожидавших его в деревне Гэзельден, весьма скоро осуществились. Хотя Стирн и скрывал сначала все подробности неприятного приключения с Ленни, но странствующий медник разболтал, как было дело, по всему околотку. После же поисков, назначенных для Ленни в роковое воскресенье, все попытки скрыть происшествие оказались тщетными. Тогда Стирн, уже нисколько не стесняясь, рассказал свою историю, а странствующий медник – свою; и оба эти рассказа оказались крайне неблагоприятными для Ленни Ферфильда. Как образцовый мальчик, он нарушил священное спокойствие воскресного дня, завязал драку с молодым джентльменом и был побит; как деревенский мальчик, он действовал заодно со Стирном, исполнял должность лазутчика и делал доносы на равных себе: следовательно, Ленни Ферфильд в обоих качествах, как мальчика, потерявшего право на звание образцового, и как лазутчика, не мог ожидать пощады; его осмеивали за одно и презирали за другое.
Правда, что в присутствии наставника и под наблюдательным оком мистера Дэля никто не смел открыто изливать на Ленни чувство своего негодования; но едва только устранялись эти препоны, как в ту же минуту начиналось всеобщее гонение.
Некоторые указывали на Ленни пальцами или делали ему гримасы, другие бранили его, и вообще все избегали его общества. Когда случалось ему, при наступлении сумерек, проходить но деревне, почти за каждым забором раздавались ему вслед громкие ребяческие крики: «кто был сторожем приходской колоды? бя!» «кто служил лазутчиком для Ника Стирна? бяа!» Сопротивляться этим задиркам было бы напрасной попыткой даже для более умной головы и более холодного темперамента, чем у нашего бедного образцового мальчика. Ленни Ферфильд решился раз и навсегда избавиться от этого, – его мать одобряла эту решимость; и, спустя два-три дня после возвращения доктора Риккабокка из Гэзельден-Голла в казино, Ленни Ферфильд, с небольшим узелком в руке, явился на террасу.
– Сделайте одолжение, сэр, сказал он доктору; который сидел, поджав ноги, на террасе, с распущенным над головой красным шолковым зонтиком: – сделайте одолжение, сэр, если вы будете так добры, то примите меня теперь; дайте мне уголок, где бы мог я спать. Я буду работать для вашей чести день и ночь, а что касается до жалованья, то матушка моя сказала, сэр, что это как вам будет угодно.
– Дитя мое, сказал Риккабокка, взяв Ленни за руку и бросив на него проницательный взгляд: – я знал, что ты придешь, – и Джакомо уже все приготовил для тебя! Что касается до жалованья, то мы не замедлим переговорить о нем.
Таким образом Ленни пристроился к месту, и его мать несколько вечеров сряду смотрела на пустой стул, где Ленни так долго сидел, занимая место её любезного Марка; и самый стул, обреченный стоять в комнате без употребления, казался теперь таким неуклюжим, необещающим комфорта и одиноким, что бедная вдова не могла долее смотреть на него.
Неудовольствие поселян обнаруживалось и в отношении к ней столько же, сколько и к Ленни, если только не более; так что в одно прекрасное утро она окликнула дворецкого, который скакал мимо её дома на своей косматой лошаденке, и попросила его передать сквайру, что тот оказал бы ей большую милость, еслиб отнял у неё арендуемое место, тем более, что найдутся очень многие, которые с радостью займут его и дадут гораздо лучшую плату.
– Да ты, матушка, с ума сошла, сказал добродушный дворецкий: – и я рад, что ты объявила это мне, а не Стирну. Чего жь ты хочешь еще? место, кажется, хорошее; да притом же оно и достается тебе чуть не даром.
– Да я не о том и хлопочу, сэр, а о том, что мне ужь больно обидно становится жить в этой деревне, отвечала вдова. – Притом же Ленни живет теперь у иностранного джентльмена, так и мне хотелось бы поселиться где нибудь поближе к нему.
– Ах, да! я слышал, что Ленни нанялся служить в казино, – вот тоже глупость-то непоследняя! Впрочем, зачем же унывать! ведь тут не Бог весть какое расстояние – мили две, да и то едва ли наберется. Разве Ленни не может приходить сюда каждый вечер после работы?
– Нет ужь извините, сэр! воскликнула вдова с досадою: – он ни за что не станет ходить сюда затем, чтобы слышать на дороге всякую брань и ругательство и переносить всякие насмешки, – он, которого покойный муж так любил и так гордился им! Нет, ужь извините, сэр! мы люди бедные, но и у нас есть своя гордость, как я уже сказала об этом мистрисс Дэль, и во всякое время готова сказать самому сквайру. Не потому, чтобы я не чувствовала благодарности к нему: о, нет! наш сквайр весьма добрый человек, – но потому, что он сказал, что не подойдет к нам близко до тех пор, пока Ленни не съездит выпросить прощения. Просить прощения! да за что, желала бы я знать? Бедный ребенок! еслиб вы видели, сэре, как он был разбит! Однако, я начинаю, кажется, сердиться; покорненпие прошу вас, сэр, извините меня. Я ведь не так ученая как покойный мой Марк, и как был бы учен Ленни, еслиб сквайру не вздумалось так обойтись с ним. Ужь пожалуста вы доложите сквайру, что чем скорее отпустит меня, тем лучше; а что касается до небольшего запаса сена и всего, что есть на наших полях и в огороде, так я надеюсь, что новый арендатор не обидит меня.