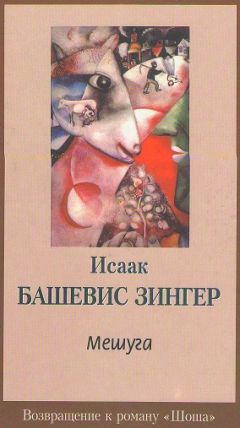Большим и указательным пальцем изображая револьвер, он сделал жест, как будто открывал огонь. Все его движения были акробатически-быстрые. Его лицо все время двигалось, корчило гримасы и передразнивало. Он задирал одну бровь в наигранном удивлении, в то время как другая опускалась, словно он плакал. Он раздувал ноздри. Герман уже много слышал о нем от Маши. Она говорила, что он рассказывал анекдоты, роя собственную могилу, и нацисты так потешались над ним, что разрешили ему бежать. Подобным же образом его клоунада сослужила ему хорошую службу у большевиков. Юмор висельника и комичные проделки помогли ему преодолеть бесчисленные опасности. Маша хвасталась перед Германом тем, что Яша любил ее, а она его отвергла.
"Значит, вы ее муж?", - сказал Котик Герману. "Как вы ее заполучили? Я полмира обыскал, разыскивая ее, а вы явились да женились. Кто вам дал на это право? Это, извините меня, типичный империализм..."
"Ты по-прежнему шут", - сказала Маша. "Я, кажется, слышала, что ты был в Аргентине?"
"Да, я был в Аргентине. А где я не был? Боже, благослови самолет. Садишься, опрокидываешь в себя шнапс, и только начнешь храпеть и мечтать о Клеопатре, как ты уже в Южной Америке. Когда здесь шевуот, на Кони Айленд люди идут купаться, а когда там шевуот, люди дрожат от холода в квартирах без отопления. Кому понравится творог на шевуот, если на улице мороз? На хануку плавишься от жары, все раздеваются, чтобы охладиться в Мар-дель-Плате, но достаточно только на минуту нырнуть в казино и просадить несколько песо, и ты снова взмок. Что ты такого нашла в нем, что вышла за него?", - сказал Яша Котик Маше и подчеркнул вопрос преувеличенным пожатием плеч. "Что, например, есть у него, чего бы у меня не было? Хотел бы знать".
"Он серьезней человек, а ты всем действуешь на нервы", - возразила Маша.
"Видите, что вам досталось?", - сказал Яша Котик Герману и показал на Машу. "Она не просто женщина. Она поджигатель беспорядков - родом то ли с неба, то ли из ада, я никак не пойму. Ее мудрость спасла нам всем жизнь. Она могла бы убедить самого Сталина, если бы он почтил лагерь визитом. Что стало с Моше Файфером?", - спросил Яша, оборачиваясь к ней. "Я думал, ты осталась с ним".
"С ним? Что ты несешь? Ты пьян или просто хочешь поссорить меня с моим мужем? Я ничего не знаю о Моше Файфере, совсем ничего, и ничего не хочу о нем знать. Когда ты так говоришь, можно подумать, между мной и им что-то было. У него была жена, и каждый знал об этом. Если они оба еще живы, то они наверняка вместе".
"Ну, я ведь ничего и не сказал. Вам ни к чему ревновать, мистер - как ваше имя? Бродер? Хорошо, значит, Бродер. Во время войны ни один из нас не был человечным. Нацисты делали из нас мыло, кошерное мыло. А для русских мы были навозом для революции. Чего ждать от навоза? Что касается меня, то эти годы я бы вычеркнул из жизни".
"Он пьян как Лот", - пробормотала Маша.
3.
Пешелес во время этого разговора стоял на шаг позади всех.
Он удивленно поднял брови и ждал с терпением картежника, который знает, что в его руках туз. На его безгубом рту лежала замороженная усмешка. Герман забыл о нем и только теперь повернулся к нему. "Маша, это мистер Пешелес".
"Пешелес? Мне кажется, одного Пешелеса я когда-то знала. В России или в Польше - теперь уже не помню, где", - сказала Маша.
"Я происхожу из маленькой семьи. Наверное, у нас была бабушка по имени Пеше или Пешеле. Я познакомился с мистером Бродером на Кони Айленд, в Бруклине - я не знал..."
Последние слова Пешелес вытолкнул из себя с блеющим смешком. Маша вопросительно посмотрела на Германа. Яша Котик лукаво почесал голову ногтем мизинца.
"Кони Айленд? Я как-то играл там, или пробовал играть - как это называется? Ах, да, Брайтон. Театр полон старых женщин. Где они берут в Америке так много старух? Они не только глухи, но еще и забыли идиш. Как можно играть перед публикой, которая не слышит тебя, а если бы и услышала, то не поняла бы? Менеджер, или как он еще там себя называл, прожужжал мне все уши речами об успехе и так далее. Какой может быть успех в доме для престарелых? Таким, каким вы меня сейчас видите - таким я уже лет сорок стою на сценах еврейских театров. Начал я в одиннадцать лет. Когда они не разрешили мне играть в Варшаве, я уехал в Лодзь, в Вильну и в Ишишок. Я и в гетто играл. Даже голодная публика лучше, чем глухая. Когда я приехал в Нью-Йорк, я должен был играть перед профсоюзом актеров. Я играл Купи Лемля, а эксперты профсоюза в это время перекидывались в картишки и время от времени поглядывали на меня. У меня ничего не вышло - произношение и прочие шманцы. Ну, короче говоря, я познакомился с человеком, у которого был румынский погребок. "Ночное Кабаре" - называлась лавочка. Евреи, которые прежде были шоферами на дальних рейсах, ходили туда со своими кралями. У всех жены и внуки, которые стали профессорами. Жены носят дорогие норки, и Яша Котик должен развлекать их. Моя особенность в том, что я говорю на плохом английском и вставляю раз от разу несколько слов на идиш. И это награда за то, что я сказал "нет" газовым камерам и отказался лечь и умереть за товарища Сталина в Казахстане. Для пущей радости, здесь, в Америке, я заработал подагру, да и насос уже не хочет качать, как прежде. А что делаете вы, мистер Пешелес? Вы бизнесмен?"
"Какое это имеет значение? Я вашего не беру".
"Выходит, все-таки берете!"
"Мистер Пешелес торгует домами", - сказал Герман.
"Может быть, у вас найдется дом для меня?", - спросил Яша Котик. "Я даю вам письменную гарантию, что не стану жрать кирпичи".
"Что же мы тут стоим?", - перебила Маша. "Пойдемте, съедим что-нибудь. Правда, Яшеле, ты ни капельки не изменился. Как прежде - уксус в меду".
"А ты невероятно похорошела".
"Как долго вы уже замужем?" - спросил Пешелес у Маши.
Маша сдвинула брови. "Достаточно долго, чтобы потихонечку подумывать о разводе".
"Где вы живете? Тоже на Кони Айленд?"
"Что означает вся эта болтовня о Кони Айленд? Что там случилось?", спросила Маша подозрительно.
"А вот и салат!", - сказал сам себе Герман. Его удивляло, что его представления о катастрофе оказывались много хуже, чем действительность. Он все еще стоял на ногах. Он не упал в обморок. Яша Котик закрыл один глаз и покрутил носом. Пешелес подошел поближе.
"Я ничего не выдумываю, миссис - как мне вас называть? Я был у мистера Бродера дома, на Кони Айленд. На какой это улице? Между Мермейд и Нептун-авеню? Я думал, что женщина, перешедшая в иудаизм - его супруга. А теперь оказывается, что у него здесь тоже есть симпатичная маленькая жена. Говорю вам, эти переселенцы умеют жить. У нас. американцев, все обстоит по-другому: если ты женился, то и остаешься с женой, нравится она тебе или нет. Или разводись и плати алименты, а не заплатишь, так пойдешь в тюрьму. Что случилось с еще одной красивой женщиной - Тамарой? Тамарой Бродер? Я даже записал ее фамилию в мою записную книжку".
"Кто это Тамара? Твою погибшую жену звали Тамарой, да?", - спросила Маша.
"Моя погибшая жена в Америке", - возразил Герман. Когда он произносил это, у него дрожали колени, а желудок свело судорогой. "Я все-таки еще упаду в обморок?", - спросил он себя.
Машино лицо стало злым. "Твоя жена восстала из мертвых?"
"Кажется, так".
"Это та, которую ты встретил у твоего дяди на Ист-Бродвее?"
"Да".
"Ты говорил мне, что она старая и уродливая".
"Именно это все мужья и говорят женам", - смеясь, сказал Яша Котик. Он высунул кончик языка и скосил глаза. Пешелес тер подбородок.
"Я теперь не знаю, кто не в себе - я или все остальные". Он повернулся к Герману. "Я был на Кони Айленд в гостях у миссис Шрайер, и она рассказала мне о женщине, которая живет этажом выше и которая перешла в иудаизм, и вы будто бы ее муж. Она сказала, что вы писатель или рабби или что-то в этом роде, а еще она сказала, что вы торгуете книгами. У меня есть слабость к литературе, будь она на идиш, иврите или турецком. Она расхваливала вас, говорила и то, и это, и поскольку у меня библиотека и я собираю все, что только могу, я подумал, что мог бы что-нибудь у вас купить. Итак, Тамара? кто она?"
"Я не знаю, чего вы хотите, мистер Пешелес, и почему вы вмешиваетесь в жизнь других людей", - сказал Герман. "Если вы думаете, что что-то не в порядке, почему вы не приведете полицию?"
Огненные круги появлялись перед его глазами, когда он говорил. Они медленно вибрировали рядом с его лицом. Это явление он помнил с детства. Маленькие кольца как будто прятались за его глазами, чтобы обнаружить себя в момент стресса. Одно кольцо уплыло в сторону, но потом вернулось. "Можно ли лишиться чувств и при этом остаться на ногах?", - спросил себя Герман.
"Какая полиция? О чем вы говорите? Я, как говорится, не казак Господа Бога. По мне, так пусть у вас будет хоть целый гарем. Вы живете не в моем мире. Я думал, я могу вам чем-нибудь помочь. В конце концов вы беженец, а полька-нееврейка, перешедшая в иудаизм - это не пустяк. Мне говорили, что вы разъезжаете и продаете энциклопедии. Так вышло, что через несколько дней после того, как я побывал у вас, мне представилась возможность посетить в больнице одну женщину, которую прооперировали по случаю какого-то женского недомогания. Она дочь моего старого друга. Я вхожу и вижу Тамару; они лежали в одной палате. Ей удаляли пулю из бедра. Нью-Йорк кошмарный город, это целая Вселенная, но одновременно это маленькая деревня. Она рассказала мне, что она ваша жена - возможно, она бредила".